Мы используем файлы cookie.
Во время посещения сайта журнала «Север» вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ. Подробнее
Акция Архив
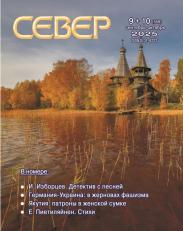
Подписку на журнал "Север" можно оформить не только в почтовых отделениях, но и через редакцию, что намного дешевле.

Литературная премия журнала "Север"
Лауреатами литературной премии журнала «Север» за 2024 год стали Филипп Резников (г. Москва), Ольга Гусева (г. Петрозаводск), Татьяна Ушакова (г. Петрозаводск).



Позвоните нам
по телефону
− главный редактор, бухгалтерия
8 (814-2) 78-47-36
− факс
8 (814-2) 78-48-05
Синие звезды Европы, зеленые звезды Азии
Людмила БАСОВА, Проза
Людмила БАСОВА
г. Владимир
Незабвенному мужу
Леониду Пащенко посвящаю
ГЛАВА 1
Полуживая возвращалась Алина с грузовой станции «Душанбе-2». Туда и в добрые времена было трудно добраться. Доехать до конечной 15-го автобуса, а потом своим ходом, никакого транспорта. Правда, можно было взять такси или остановить попутку. Но теперь ни автобусов, ни такси. Попутки, правда, нет-нет да встречаются на дорогах, только садиться в них опасно. Сядешь – и все, с концами. Разъезжают в автомобилях в основном исламские боевики. Мирные жители попрятались по своим норам, без особой необходимости на улицу не выходят. Но у Алины такая необходимость была: три месяца назад заказали контейнер, и ни с места. Вот и сегодня ей опять сказали, что очередь не продвинулась, контейнеры из России долго не возвращаются, а желающих уехать из мятежной республики все больше и больше.
До дома уже рукой подать, уже почти дошла, но сил не было. Отекли, устали ноги. Да и жара сегодня – за тридцать перевалило, а ведь всего-то начало марта. Вот и решила Алина зайти в магазин, перевести дух. Покупать ничего не собиралась, да там ничего и не было, но когда-то в этот магазин поставляли продукты для диабетиков – дефицитную гречку, сладости на ксилите, тушенку, а то и постную говядину. Обустроен он был по-особому. Вдоль всей стены, напротив прилавка, удобная мягкая скамейка, чтоб могли больные люди, часами стоявшие в очереди, посидеть, передохнуть. Да и знакомый продавец Салим нравился Алине: не было в нем ни хамства, ни угодливости, столь сочетаемых в доблестных работниках прилавка времен застоя. Кроме того, Салим, как заметила Алина, с особым почтением относился к людям образованным, ученым, а значит, ко всем жильцам писательского дома, как его называли в народе: построен дом на средства литфонда. Ее, Алину, иначе как муаллима1 не называл.
Слава богу, магазин открыт. Салим скучает за прилавком, а самое главное – прохладно.
– Добрый день, Салим! Можно у тебя передохнуть?
Салим приветливо улыбнулся.
– Отдыхай, муаллима. Видишь – продуктов нет, покупателей нет. Зато можно чай попить, у меня горячий.
– С удовольствием выпью, Салим, в горле пересохло.
Наливая зеленый чай в пиалу, скороговоркой стал говорить положенные приветствия в форме вопроса: все ли у вас хорошо, здоровы ли родные, как чувствует себя хозяин?
Алина кивала головой, в свою очередь осведомляясь о здоровье самого Салима и его семьи. Усталость отпускала, Алина блаженно расслабилась, не сразу восприняв вопрос:
– Квартиру, муаллима, продали?
Сразу же внутренне подобралась и, отставляя пиалу со словами благодарности, не торопилась отвечать. Ее уже не раз предупреждали: с этим поосторожней. Говорить надо – либо уже продали, либо вообще не собираемся. В микрорайонах продать жилье было практически невозможно, разве уж совсем за бесценок, чтоб хватило на отправку контейнера и билеты на самолет. Но за их квартирами в элитном доме велась настоящая охота. Посмотрела в лицо Салиму, встретилась глазами и сказала как есть:
– Еще не продали, но договорились с надежным человеком.
Надежным человеком был их давний друг, Шавкат Гулямов, врач, преподаватель мединститута. За то время, пока подойдет очередь с контейнером, он собирался подзанять у родни денег. Конечно, квартиру можно было продать дороже, но рисковать Алина с мужем не хотели. Кроме того, что Шавкат свой, порядочный человек, его зять, летчик, обещал пронести с собой в самолет доллары, отдать их уже в Москве. Ведь устроили идиотизм: продавать квартиры можно, а вывозить доллары – нет.
– Куда едете, муаллима?
– Во Владимир. У нас там сын живет.
– Сын – это хорошо, – вздохнул Салим. – У меня пятеро детей и все дочки. Я их всех хотел выучить, всех… А-а-а, – махнул рукой Салим, и Алина увидела, как запечалилось его лицо, как сжались, легли в скобочку полные губы.
– Ничего, Салим, может, все еще образуется, – произнесла Алина дежурную фразу, от которой самой стало неловко. Сейчас спросит – чего ж, мол, съезжаете-то?
Но он заговорил о другом.
– Муаллима, я почему про квартиру спросил… Если уезжаете, у меня родственник – таможенник, начальник. Не самый главный, но может помочь с контейнером. И чтоб досмотр не производили.
– Наверное, сам Бог мне сегодня подсказал: загляни к Салиму, – обрадовалась Алина. – Только что с контейнерного двора. Третий месяц на очереди – и ни с места. А что досмотр – так мы не боимся, ничего неположенного вывозить не собираемся.
– Вы не знаете, муаллима… Контейнеры у русских так просто не пропускают. Скажут – все выбрасывайте на землю, а потом начнут: это нельзя, это нельзя, хотя можно. Вы все сложите хорошо, а потом они так запихают, половина не влезет.
Алина согласно кивала, она уже не раз слышала о бесчинствах на таможне.
– Только знаете, за это платить надо… – Салим перешел на шепот, хотя в этом не было никакой необходимости. Время от времени в магазин заглядывали какие-то люди, но, увидев витрины, заставленные банками с виноградным соком и зелеными помидорами, тут же разворачивались обратно.
– Это понятно, Салим. Кто же станет делать бесплатно? Не беспокойся, деньги у нас есть, сын передал. А сколько надо, не знаешь примерно?
– Он сам скажет. Мы зайдем вместе, договоритесь.
– Дай бог тебе здоровья. Будем ждать.
– Хозяину привет передавайте, – Салим вышел на порог, провожая Алину.
Домой Алина вернулась в хорошем настроении, дверь открыла своим ключом, чтоб не беспокоить мужа. Константин Леонидович сидел в кресле, на подлокотнике дымилась в пепельнице сигарета. Лицо мужа было отстраненно задумчивым, взгляд обращен внутрь себя. Алина глянула на беспорядочно разбросанные по столику пожелтевшие газеты и журналы и догадалась, в каких далях он сейчас витает…
Десять лет назад Константин Леонидович попал в автомобильную катастрофу, с тех пор хромал, ходил, опираясь на трость. Три операции мало чем помогли: левая нога так и осталась короче, не гнулась в бедре. Тем не менее в мирное время он не очень страдал от своей хромоты. Они жили в самом центре Душанбе, все было под рукой: редакция литературного журнала, в котором он уже лет двадцать трудился, в нескольких минутах ходьбы от дома, рядом автобусная и троллейбусная остановки. По субботам, как правило, объезжал все книжные магазины города, а в воскресенье отправлялся на Зеленый базар, хотя Путовский базар находился на одной улице с ними, надо лишь пройти по подземному переходу. Просто Зеленый был живописнее, богаче, торговали там в основном узбеки, а не таджики, и Константин Леонидович, покупая приправы к плову или свежую зелень, иногда подолгу беседовал с ними на узбекском языке… Теперь, когда встал общественный транспорт, а на улицу стало опасно выходить и здоровым-то людям, он словно обезножил. Все хлопоты, связанные с отъездом, легли на Алину, и муж чувствовал себя не у дел, переживал, что не может помочь, хотя это было не так. Целыми днями он упаковывал в коробки книги, разбирался с архивом. Они давно уже были профессиональными литераторами, больше, правда, переводили, чем писали и издавались сами (особенности национальной политики в республиках Союза), но архив Костя собирал еще с журналистской юности, еще с тех времен, когда работал в Узбекистане собкором молодежной газеты в Голодной степи. Причем хранил не только номера со своими поэтическими подборками, но и с репортажами, очерками, а также первыми рассказами Алины.
– Милый, ты где, ау? – позвала Алина.
– Слава богу, вернулась, – встрепенулся Константин Леонидович. – Вроде тихо, не стреляют, а все равно, как уйдешь, места себе не нахожу…
– Да брось ты… Все хорошо. Лучше расскажи, в каких далях витал?
Взяла в руки газету.
– Ага, «Комсомолец Узбекистана». И что же здесь за красавец?
Константин Леонидович действительно был, как выражалась одна из приятельниц Алины, красив до неприличия. Даже сейчас, когда уже перешагнул пятидесятилетний рубеж и стал совершенно седым. Но это была зрелая, отточенная временем, освещенная пережитым красота. А здесь, на черно-белом, уже выцветшем снимке, он был чудо как хорош. Стоял на фоне бескрайней степи, чуть-чуть задрав голову, с улыбкой во все лицо, с раскинутыми в стороны руками, словно собираясь взлететь. Екнуло, забилось часто-часто сердце… Вот таким Алина повстречала его почти тридцать лет назад. Повлажневшими глазами пробежала по строчкам стихотворения под заголовком «Степь моей юности»:
Дни так горячи, ночи так коротки,
Дороги, как ветер, внезапны.
Я люблю вас, вагонные городки,
Поезда, уходящие в завтра…
Дальше читать не смогла, да в этом и не было необходимости: она помнила его наизусть.
Через день пришел Салим вместе с родственником – суетливым маленьким человеком неопределенного возраста по имени Бахтиер. Тот походил по квартире, раскрыл несколько коробок с книгами, пострелял глазками направо-налево, спрашивая при этом, правда, скорее с утвердительной интонацией: оружие не везете, наркотиков нет, да? Договорились. В пятницу после обеда приедет машина с контейнером, останется на ночь, грузите спокойно, не торопитесь. Утром подойдет водитель, вы поедете вместе с Салимом, там будет Саид, скажете ему, что Бахтиер сам все смотрел. Деньги давайте сейчас.
Взяв деньги, все-таки осведомился:
– Квартиру продали?
– Продали, – ответила Алина, выразительно глянув на Салима. Тот незаметно кивнул: понял, мол…
– Жаль-жаль, – покачал головой Бахтиер. И вдруг накинулся на Салима: – Ты знал, почему не сказал?
– Он не знал, – вступилась за Салима Алина. Посмотрела на ставшее злым лицо Бахтиера, на мелкие хищные зубы, вдруг прикусившие нижнюю губу, и подумала: Господи, как хорошо, что не стали гоняться за ценой, ждать «дорогих» покупателей. Хоть бы все получилось с контейнером…
Если бы не бесценная библиотека, которую они с Костей собирали всю жизнь и где не было ни одной случайной книги, ни за что не стали бы связываться с контейнером. Мебель допотопная, телевизор и холодильник тоже свое отслужили. Но коль уж все равно проходить через эти тернии, то Алина решила брать все, вплоть до мелкого кухонного скарба. Еще неизвестно, как сложится жизнь там и будет ли на что покупать те же ложки-плошки…
Грузили до позднего вечера. Пришли помогать те из друзей, кто еще оставался в городе, но основной рабочей силой были соседи – причем самого разного возраста – от десятилетних мальчишек, подтаскивающих что полегче, до пожилых мужчин. Они же и дежурили до утра во дворе, стерегли контейнер.
Утром Алина села в «Жигули» к Салиму, и они поехали вслед за грузовиком…
К ним сразу же подошел таможенник – коренастый, в камуфляжной форме. Некрасивое, смугло-кирпичное лицо, мало похож на таджика: глаза узкие, нос приплюснутый, с вывернутыми ноздрями. Уйгуры2 в роду подмешаны, – машинально отметила про себя Алина.
Рывком распахнул дверцы контейнера, не глядя на Алину, бросил:
– Выгружать на досмотр сами будете? Если наши грузчики – платить надо.
– Подожди, брат, – подошел к нему Салим и заговорил по-таджикски, – тебя как зовут, уважаемый? Саид-ака, да? Вот хорошо… Бахтиер велел тебе передать, что сам смотрел, мы договорились, что больше смотреть не будут. Спроси у него, если не веришь.
– Э-э, – таможенник покачал головой, – Бахтиера сейчас нет, откуда я знаю…
– Клянусь, брат… Если забыл, давай найдем его.
– Бахтиер, Бахтиер… Родственник, говоришь? Бахтиер – хороший человек. Сам живет и нам дает. Не придет он, не надо ждать. Эй, Мумин! – окликнул стоящего неподалеку парня. – Иди сюда, выгружать будем.
Салим беспокойно оглянулся на Алину Николаевну. В отличие от таможенника, он знал, что она понимает каждое слово.
Парень ленивой походкой подошел к контейнеру. Этот был красавец. Матово-смуглый, с правильными чертами лица, с копной густых черных волос и серыми глазами.
Памирец, потомок Александра Македонского. Если верить истории, полководец вырезал в горных кишлаках мужчин и оставлял своих воинов для потомства, – подумала Алина и тут же одернула себя: «Господи, о чем это я? Зачем мне это сейчас?»
Подошла к таможеннику:
– Вы знаете, Бахтиер действительно сам делал досмотр. У нас ничего такого… Мы писатели, люди мирные. Только старая мебель и книги. Картин несколько.
Парень спросил:
– Что, Саид-ака, начинать?
Саид между тем вытащил аккуратно заложенную между стенкой контейнера и коробкой с книгами картину, разорвал бумагу, в которую она была упакована. Пейзаж в темных, почти в черных тонах был написан маслом на куске старой фанерки.
– Говоришь, картины, да? На картин тоже разрешение министерства культур-мультур надо, не знаешь? – таможенник заговорил теперь по-русски.
– Нет, – растерялась Алина. – Но видите ли, это картины, как бы вам сказать… Самодеятельные. Они не представляют ценности. Только для нас.
– Э-э, все так говорят. Фанера старый, плохой, некрасивый, а потом получится, что это Пикас-с-с, – таможенник победоносно глянул на Алину. – Думаешь, только вы умные, а я тут… ахмак, да?
– Я так не думаю. Только уверяю, что работ Пикассо нет вообще в Таджикистане.
Саид-ака согнул фанерку, она вдруг хрумкнула, и Алине показалось, что также хрумкнуло у нее внутри, около сердца, старая картина была семейной реликвией.
– Саид-ака, брат, так нельзя, так нечестно, Бахтиер обещал, – заволновался Салим.
– Послушай, а ты что для русских так стараешься? Продался, да? А может, ты ее… того? – манипулируя пальцами, сделал неприличный жест. – Что, молоденьких русских мало?
Салим побагровел и пошел на таможенника.
– Салим! – испугалась Алина.
И в это время на другом конце двора раздалась автоматная очередь. Салим остановился.
Саид, подмигнув Мумину, осклабился.
– Послушайте, – Алина держалась изо всех сил. – Давайте по-хорошему. У меня есть деньги. Сколько надо?
– По-хорошему – почему нет? – продолжал ухмыляться таможенник. Взяв деньги, сказал Мумину по-русски:
– Давай опечатывай, будем отправлять, – и добавил по-таджикски: – Скажешь ребятам – грузить будут, пусть тряхнут хорошенько. Ей в России дрова нужны будут, печку топить.
В машине Алина заплакала. Салим пытался ее успокоить, оправдывался:
– Муаллима, хлебом клянусь, я не знал, что так будет. Это не люди… И Бахтиер, родственник мой… Это кучук3, хар4, честное слово…
Алина плакала и повторяла:
– Салим, веришь, сколько помню себя… Сколько помню себя, Салим…
Она хотела сказать, наверное, очень много – о том, что родилась в Душанбе, прожила там почти полвека, что с Таджикистаном связана вся ее жизнь. Но фраза не выговаривалась, не вмещала нахлынувшие чувства, и Алина опять повторяла:
– Сколько помню себя…
Дорогие мои старики
Моя бабушка Оля вместе со своей сестрой Тоней, которая пришла к нам в гости, пьют чай из блюдец и ведут неторопливый разговор. Мне страсть как хочется послушать, о чем они говорят, и я стараюсь придумать дело, чтобы остаться здесь, на веранде. Беру деревянную колотушку, бидончик, наполненный сметаной, и начинаю сосредоточенно сбивать масло. Теперь уж бабушка не должна прогнать меня на улицу, по опыту зная, что потом не заставит заниматься этим нудным делом. Пристраиваюсь на кровати, за печкой, и во все глаза гляжу на бабушку Тоню.
Бабушка Тоня совсем необычная бабушка.
Когда они вместе с моей бабушкой остались сиротами, то присматривала за ними их бабушка, деревенская колдунья. А когда эта совсем старенькая бабушка-колдунья собралась умирать, то долго мучилась и помереть никак не могла, потому что ей надо было освободиться от своего колдовского дара, передать его кому-то. Но передать она могла его только с каким-нибудь предметом. А поскольку никто не хотел становиться колдуньей, то никто к ней и не подходил, хотя она стонала, мучилась и всем протягивала то кружку, то щепотку сена, вытащенного из матраца, то веник, почему-то лежавший рядом с умирающей. Оле было уже двенадцать лет, она все понимала и потому не подходила близко к своей бабушке. А Тоне всего четыре, и только взрослые упустили ее из виду, как она кинулась к бабушке и взяла из ее рук этот проклятый веник. Тогда якобы бабушка-колдунья сказала: «Отпусти, господи», и перекрестила бабушку Тоню, с тем и померла.
Девочек-сироток привели к приходскому священнику, который вроде бы приходился родственником колдунье, но не признавался в этом. Сирот, однако, взял в дом, но все приглядывался к бабушке Тоне, не проявится ли в ней колдовской дар. Дар не проявлялся, девочки росли послушными и трудолюбивыми. И все забыли про завещание колдуньи, а вспомнили много лет спустя, когда свершилась уже Октябрьская революция и бабушка Оля вышла замуж, а бабушка Тоня ходила в невестах и на все окрестные села славилась своей красотой. И полюбил ее красавец парень, который работал в милиции. И будто бы ему в этой милиции сказали: или женишься на поповской родственнице, или останешься работать в милиции. И он выбрал милицию и женился на комсомолке Даше. И тогда Тоня сказала ему, что будет он всю жизнь ее помнить… Только то и сказала. Но после этих слов стал он сохнуть и из красавца превратился в Кощея Бессмертного, и никакой доктор не мог найти причину такой сухотки. Бросил работу в органах или его оттуда выгнали, потому что какой же работник из такого высохшего человека, и все время сидел на крыльце у бабушки Тони, а надо сказать, что она, после того как любимый предпочел ей милицию, ушла из дома дяди-священника в одинокую, забитую до тех пор избушку бабушки-колдуньи. Говорят, что комсомолка Даша приходила к бабушке Тоне и просила простить мужа и отпустить от себя. И вроде бы бабушке Тоне стало жалко комсомолку Дашу, она даже заплакала и ответила, что ничего теперь сделать не может.
Тут, я помню, выражала сомнение в том, что комсомолка Даша приходила просить бабушку Тоню. Потому что в ту пору уже была комсомолкой моя старшая сестра Вера и я знала, что комсомольцам не положено верить в такое. Тогда моя бабушка Оля, не раз рассказывавшая мне эту историю, обижалась и говорила, что если я не верю, то зачем тогда пристаю, и продолжала лишь после того, как я изрядно надоедала ей своим канюченьем.
И вот однажды поутру, выйдя из дома, бабушка Тоня увидела некогда красавца парня под своим крыльцом мертвым. Она взяла его на руки, ведь он был легонький, как малое дитя, потому что совершенно высох, и отнесла его к комсомолке Даше. Вдвоем они его и похоронили. И бабушка Тоня так и не вышла никогда замуж. А глаз у нее становился все дурнее и дурнее, и поселковые прятали от него и малых детей, и скотину, чтобы ненароком не сглазила.
Но кто бы подумал, что бабушка Тоня уйдет на гражданскую войну и будет санитаркой в отряде красноармейцев. И хоть называлась она просто санитаркой, на самом деле врачевала раны разными травами и даже заговаривала. А красный командир был от бабушки Тони без ума и никогда с ней не расставался. И она отводила от него вражеские штыки и пули. И только один раз, отправляясь в особенно тяжелый бой, уговорил ее остаться, ссылаясь на то, что в отряде много раненых и их нельзя оставлять без присмотра, а на самом деле боялся за бабушку Тоню, потому что любил ее больше жизни. Однако бабушка Тоня разгадала такой маневр и наотрез отказалась остаться. Но командир очень рассердился и сказал, что приказывает ей это как красный командир красному бойцу. И что если она не послушает приказа, значит, изменит делу революции. После этого бабушке Тоне ничего не оставалось делать. Но в этом бою красный командир сложил свою голову. Бойцы принесли его на шинели уже остывшего. И бабушка ничего не могла сделать. А если бы он был еще не остывший, если в нем хоть немножко теплилась бы жизнь, она, конечно, оживила бы его своими колдовскими чарами.
Мне было очень жаль, что к тому времени, когда бабушка Тоня воевала с красным командиром, уже не было в живых высохшего жениха из милиции. Потому что, мне кажется, тогда бы он просто так высох, от жалости и позднего раскаяния. И еще я думаю, что бабушка Тоня тоже полюбила этого красного командира и, наверное, нарушила бы обет безбрачия, который, по-видимому, дала после того, как высох ее жених. Но окончательно убедившись после гибели командира, что в любви ей не везет, перестала раз и навсегда о ней даже думать.
Вот такая смелая, не похожая на других бабушек, была бабушка Тоня. И больше всего она была непохожа на свою сестру, мою родную бабушку Олю, которая по характеру была очень мягкая, хотя, конечно, и в ее жизни были поступки решительные и смелые. Взять хотя бы ее замужество…
Ей было пятнадцать лет, когда к священнику в дом пришел хромой, почти тридцатилетний, да еще рыжий, мастер по швейным машинкам. Увидев хорошенькую сиротку, он через несколько дней прислал сватов. Семья Ивана пользовалась на редкость дурной славой. Его вдовый отец не обвенчался, как положено, с новой молодой женой, а жил с ней как с сожительницей. Причем эта сожительница не только сама курила, но научила курить двух сестер Ивана, девок-перестарок, которых, может быть, поэтому никто и не засватал, что отец жил невенчанным, да и были они в селе люди сравнительно новые, невесть откуда взявшиеся и ко всему этому не ходили в церковь.
И тогда-то, пожалев мою бабушку Олю, кто-то написал священнику записку такого содержания: «Если вам сироту не жалко, то лучше наденьте ей камень на шею да утопите в реке». А река в их селе Рудня Балашовской области действительно была, называлась она Хопер. Но священник, естественно, топить бабушку Олю не стал, а согласился выдать ее замуж. Но что самое удивительное, бабушка Оля не была против. Неизвестно почему, но и ей приглянулся хоть хромой, хоть рыжий и старый, но все-таки симпатичный мастер по швейным машинкам. В общем, бабушка Оля стала на шестнадцатом году женой моего дедушки Ивана и, как она говорила, никогда не покаялась в этом. В доме мужа ее жалели и лелеяли, а отец моего деда иначе как кудряшечкой, потому что бабушка Оля была неистово кудрява, – не называл. Дед был мастеровой, знал немало ремесел, даже печи сам клал, а бабушка Оля родила ему шестерых детей, пять девочек и одного сына Николеньку.
Дед Иван детей любил без ума, о чем я сама знала, судя по тому, как он любил нас, внуков. Но характер у него был одновременно и очень добрый, и вспыльчивый. А ругался он так, как больше не умел никто. Рассердившись, кричал: «Родимец тебя расшиби!» Я очень долго думала, что родимец – это что-то вроде сердитого бога, который должен ударить и расшибить человека. И только став взрослой, узнала, что родимец – это болезнь, которую дед мой призывал на голову разгневавших его людей.
Бабушка Оля рассказывает, что однажды я, лежа в люльке, ни с того ни с сего раскричалась, а она хотела во что бы то ни стало доварить борщ и уговаривала меня ласковыми словами, просила потерпеть. Но я, однако, ни на какие уговоры не шла и орала что есть мочи. Дед под этот мой крик незаметно вошел в дом. Постояв минутку-другую, грозно осведомился у бабушки Оли, не оглохла ли она, на что та виновато ответила, что хочет доварить обед.
– Ах ты, родимец тебя расшиби! – заругался дед. – Ребенок, значит, разрывается, а ей борщ приспичил!
И, подскочив на хромой ноге, взял кастрюлю и опрокинул ее наземь. И вся семья осталась без ужина, что по тем временам было очень даже плохо. Но дедушка, тут же успокоившись, сказал:
– Ничего, чайку попьем.
Вспышки такого часто неоправданного гнева мне не раз приходилось видеть, но я нисколько не боялась. Я только ждала, когда дед что-нибудь бросит на пол или крепко стукнет кулаком по столу. Тогда, объясняла бабушка Оля, он отходит сердцем. Она даже старалась подсунуть ему деревянную миску либо железную кружку, чтоб те не разбились. И подбирала их со словами: «Вот и хорошо, и слава богу…»
И еще был, пожалуй, один решительный поступок со стороны бабушки Оли, в котором, однако, есть кое-какие сомнительные моменты.
Дед мой, который из-за хромой ноги в гражданскую не мог воевать, ушел в дальние края на заработки – плотничать, чинить швейные машинки да класть печи. В это время шли в Рудне ожесточенные бои, и бабушка Оля спасла раненого красногвардейца.
– Захожу в сарай за сеном, корову накормить, – рассказывает бабушка, – слышу, а в сене кто-то дышит. Я перекрестилась: батюшки-светы… Пригнулась: человек, весь кровью залитый…
В общем, выходила бабушка красногвардейца. И мне эта история из бабушкиной биографии очень нравилась. Но однажды черт меня дернул спросить:
– Бабушка Оля, а откуда ты знаешь, что это был красноармеец?
Бабушка Оля посмотрела на меня, помолчала и сказала:
– Так мне думалось.
– А может, это беляк был?
– Все может быть, – согласилась спокойно бабушка Оля. – Я тогда про это не думала…
– Да как же так? – заплакала я. – Это же был наш враг!
Бабушка Оля махнула рукой:
– Какой там враг… Ему всего-то лет семнадцать было…
Мне хотелось помочь вспомнить бабушке Оле, что это был именно красноармеец.
– Бабушка, – умоляла я. – Ну, подумай, кто тогда отступал?
– Кажется, красные, – неуверенно говорила бабушка. – Или нет, белые… Забыла я…
– Ну а кто деревню занял, помнишь?
– Вроде зеленые…
Вот такой невыясненный факт остался в биографии моей бабушки Оли.
Но, пожалуй, самым решительным и по-настоящему мужественным поступком со стороны бабушки был отъезд из родной Рудни в Душанбе, вслед за моими родителями, геологами, которые по комсомольской путевке поехали в молодую республику, так нуждавшуюся в молодых специалистах.
К тому времени родилась моя старшая сестра Вера, а меня и моего брата Витюни еще на свете не было, когда дедушка единственный раз, по его признанию, предоставил бабушке Оле самой решать такой жизненно важный вопрос, и она сказала: «Поедем!»
– Уже весь скарб собрали и во дворе стояла загруженная телега, чтоб везти нас к поезду, – вспоминает бабушка Оля, – я вошла в свою хату, поклонилась в тот угол, где висела икона, и говорю: «Ну, пошли, пора, батюшка».
– Это ты кому, Божьей матери?
– Домовому, – шепчет бабушка Оля. – Домового если не позвать, он может обидеться и сам не пойти…
– А зачем он нужен?
– Эко, скажешь… – бабушка Оля смотрит с укоризной. – Как же без него…
С домовым у нее свои сложные отношения. Он вроде бы и очень хорошо относится к бабушке Оле – не щекочет ее и не душит и о несчастьях предупреждает, но помочь, видно, не может.
Так, перед войной, когда нас с братом еще не было на свете, он всю ночь кряхтел, стонал и вздыхал. Наконец бабушка, понимая, что он хочет и никак не решится сказать ей о какой-то надвигающейся беде, решила помочь ему:
– К добру, батюшка, или к худу? – спросила она, и домовой ответил:
– Ох, к худу…
А утром объявили войну.
И еще раз предупредил он ее о несчастье – перед гибелью моей мамы. Тогда нас у нее стало уже трое. Я появилась на свет огненно-рыжей, похожей на своего дедушку Ивана. Это потом мои волосы посветлели, стали золотистыми. А тогда решили, что самое подходящее имя для меня – Аля, только долго ломали голову, каким должно быть полное – Альбина, Алевтина, Алла? Остановились на Алине… Младшего брата назвали Витей в память о священнике, воспитавшем бабушку. А через несколько лет погибла в самолетной катастрофе мама. И тоже накануне вздыхал, всхлипывал домовой.
Конечно, вроде бы какой смысл в предупреждении домового, если избежать несчастья невозможно? Но, оказывается, есть у него и другие заботы. Вот, например, в послевоенные годы, когда в Средней Азии, а может, и во всей стране, было полно шпаны и о кражах слышалось то и дело, в наш дом ни разу не залезли воры, в чем, как считала бабушка, заслуга полностью домового. Правда, я не знаю, что бы воры смогли найти тогда в нашем доме, но это уже другой вопрос.
Наш домовой, кроме прочего, был еще и большой шутник. Иногда поутру никак не найдешь брошенную с вечера майку или тапочки. И уже пускаешься в рев, как бабушка скажет: «Ну-ка, успокойся да попроси: батюшка домовой, поиграй да отдай». Я тут же успокаивалась и начинала подсматривать: куда же он бросил мою маечку? И находила ее либо под кроватью, либо еще где…
…Бабушки Оля и Тоня пьют морковный чай с сахарином и говорят о неинтересном. Я перестаю слушать, задумываюсь и мечтаю о том, чтобы оказаться поблизости, когда будет умирать бабушка Тоня, хотя я ее люблю и не хочу, чтоб она умирала. Зато уж обязательно возьму у нее из рук веник или какой другой предмет. И если изменит мне парень-красавец, непременно высушу его. Однажды я даже поделилась своей мечтой с бабушкой Олей, чем очень напугала ее.
– Упаси тебя бог! Колдуньи-то – они все несчастные. У них так на роду написано…
Я уже задремала со своей колотушкой за печкой, когда в дом ворвалась соседка Сидоровна. Оказывается, ей кто-то сказал, что к нам пришла бабушка Тоня, и она прибежала, чтобы излить ей свою обиду.
Дело в том, что на днях у Сидоровны сдохла коза, которая им молока давала почти как корова, и шерсть с нее настригали на носки ребятам, и вообще была хорошая и здоровая коза, а сдохла, как считает Сидоровна, от дурного глаза моей бабушки Тони.
– Ой, да как же это я не укараулила, – причитает Сидоровна и проклинает бабушку Тоню, грозит, что отольются ей слезы малых детей…
Мне жалко и козу, и Сидоровну, и бабушку Тоню, которая ни слова не произносит в ответ на обвинение нашей соседки, молча встает, крепче подвязывает платок под подбородком и выходит из дому.
Я бегу за ней и прошу:
– Бабушка Тоня! Скажи, что ты нечаянно глянула на козу. Ты ведь правда не хотела, чтоб у Сидоровны детишки без молока остались?
– Дите глупое, – бабушка Тоня гладит меня по голове. – Да неужто и ты думаешь, что коза с дурного глазу подохла?
– А с чего же? – удивляюсь я.
– Кто его знает с чего… Может, съела чего нехорошее или клещ внутренний напал…
– Почему же ты не сказала это Сидоровне?
– Не поверит, – удрученно говорит бабушка Тоня. Я замечаю у нее в глазах слезы, но все же спрашиваю:
– Бабушка Тоня! Но ведь все знают, что ты колдунья. Ребятишек-то как лечишь?
– Травами лечу, тут колдовать не надо. А вывихи вправлять да кости сломанные на место ставить еще в гражданскую научилась.
Тогда я решаюсь на крайнее:
– Бабушка Тоня! А как же это ты без колдовства жениха высушила? Или это все тоже неправда?
– Не я, а совесть его высушила, – говорит бабушка Тоня.
Вся в смятении, я провожаю ее до самого домика, до ветхой избушки, которая, как и некогда в Рудне, стоит у самого края нашего поселка – дальше идут уже хлопковые поля. Бабушка Тоня хоть и поехала в Среднюю Азию следом за сестрой, но, верная себе, жила одиноко. И что удивительно – ее очень любили таджики, водили к ней своих больных ребятишек, а вот русские сторонились, хотя вовсе и не чурались ее помощи. Та же Сидоровна приходила однажды со слезящимся, красным глазом – никак не могла достать соринку. А бабушка Тоня из глаза что хочешь достанет языком. Я удивляюсь – не противно ли ей языком в глаза чужого человека лазить, однажды, когда она достала таким образом соринку у рыбака-выпивохи, спросила ее об этом.
– Чище глаза ничего нет, – сказала бабушка Тоня. – Он слезой омывается…
… Раннее утро. Я просыпаюсь от негромкой перебранки, с которой начинается каждый день в нашем доме.
Дело в том, что бабушка Оля каждый день встает в пять утра, а дедушка любит поспать подольше. Теперь-то я понимаю, бабушка Оля была жаворонком, а дедушка – совой, потому-то и ложился дедушка поздно и все ворочался, не засыпал. А бабушка Оля, чуть смеркалось, начинала подремывать. Но они-то не знали про такое психологическое разделение людей, а потому бабушка Оля, которая к семи часам уже побывала на базаре, разожгла печь, подоила корову и начистила картошки на завтрак, начинала ворчать:
– Господи! И как это можно столько спать, куда только сон лезет…
Дед в белой исподней рубахе и кальсонах садился на кровати, и сетка под ним сурово трещала.
– Ну, посплю я, так что тебе от этого? Жалко, что ли?
– Да спи, пожалуйста, – пожимала плечами бабушка. – Ты мне что, нужен? Спи! Я только удивляюсь – как это можно столько спать?
Мне смешно, потому что ссора эта ненастоящая, незлая.
Дед опять ложится и начинает похрапывать. Но бабушка не успокаивается.
– А потом жалуется – голова болит, – говорит она, ни к кому не обращаясь. – Как же не будет болеть – столько спать?
Я знаю, что сейчас будет, и жду.
– Черт бы тебя побрал, – кричит дед и, вскакивая, натягивает на себя рубаху и штаны. – Ну, встал, встал! Потешила душеньку? Ишь ведь как тебе пригорело!
Дед садился на табурет, а сидел он, между прочим, совершенно замечательно: одну ногу под себя, другую сгибал в колене и пристраивал тут же на табурете и начинал мрачно крутить козью ножку.
Бабушка Оля принимается будить нас, детей. Вера вставала сразу, она была очень послушная. Мы же с Витюней старались урвать минуту-другую и понежиться в постели. Будила нас бабушка ласково, не раздражаясь, но особенно нежной была к брату.
– А вот уж и солнышко встало, смотрит: что это Витюня заспался… Ишь, в окошко заглядывает…
Вообще, брата бабушка Оля и дедушка любили больше всех. Может быть, потому, что он был один мальчик. Из своих детей они тоже больше всех любили Коленьку. Но мне теперь кажется, что бабушка Оля чувствовала, каким коротким будет его век, и старалась одаривать его любовью в концентрированном виде, зная, что на его долю выпадет ее не так уж много. Брат умер рано.
Вера была чернявая, похожая на маму и очень худенькая, но никогда не болела. Я же, наоборот, розовощекая и толстая, но болела постоянно и поэтому сердилась на сестру, будто она присвоила обличье, приличествующее мне. А у Витюни были необыкновенные глаза, будто он чему-то одновременно и удивлялся, и радовался. И это детское выражение глаз сохранилось у него на всю жизнь.
Я еще не хожу в школу. Мне, правда, восьмой год, но тогда брали в школу с восьми. Торопиться некуда, но я тоже встаю. Прислушиваюсь к шуму базара – он расположен прямо у нас под окнами. Одеваюсь и выскакиваю, словно ныряю сразу в это цветастое многоголосье. Наверное, с той самой поры я люблю по сей день наши душанбинские базары. Меня знают почти все продавцы, потому что многие, не распродав товар, оставляют его на ночь в нашем дворе. Бегу, поеживаясь от утреннего холода. Подпрыгиваю и напеваю: «Ой, какие красивые помидоры, какие красивые дыни, ой, какая зеленая травка…»
Но я не останавливаюсь ни у помидоров, ни у дынь. Бегу в самый конец базара, мимо фруктов и овощей, зеленого клевера, снопами продававшегося на корм скоту, мимо огурцов и арбузов. Бегу туда, где продается мешалда. Не знаю, есть ли другое, более правильное или русское название у этой вкуснятины – не знаю, потому что сейчас она совершенно исчезла с наших базаров. А что это такое – попытаюсь объяснить. Это взбитый с сахаром мыльный корень. Но тогда, слава богу, я этого не знала. Знала только, что это вкусно-превкусно. Позже я пыталась сравнить мешалду со взбитыми сливками или взбитыми белками яиц – но мешалда еще воздушней, еще белее, еще вкуснее.
– А, янгашка,5 – кричит рыжий-рыжий, единственный рыжий на всем базаре таджик.
Я вынимаю рубль, который выпросила с вечера у дедушки, подставляю захваченную из дома пиалку, и он щедро, с походом кладет мне эту воздушную массу, это белое облако, это объедение.
Назад бегу вприпрыжку. Но время от времени останавливаюсь и облизываю верхнюю часть белой горки, возвышающейся над пиалой.
И вдруг слышу: «Гуля, Гуля!» Это меня. Это бабушкин приятель, который всегда оставляет у нас свои мешки, зимой приходит погреться, а в другое время просто так, выпить пиалу чая. Меня он очень любит, но вместо Али зовет на таджикский манер Гулей. А бабушку мою зовет Мамашкой, хотя сам тоже старый, еще старше нее. И мы, едва он постучит в окно, кричим: «Мамашка пришел!» Так и привыкли. Я кричу: «Салом, Мамашка!»
– Ой, Гуля, – радуется он и дает мне две большие зеленые редьки, потому что торгует Мамашка редькой.
– Приходи чай пить, Мамашка, – зову я.
– Хоп-хоп6, – кивает он.
Прихожу домой, угощаю мешалдой бабушку Олю и дедушку, они отказываются, и я доедаю ее всю и облизываю пиалку.
Теперь во двор. Я еще не видела сегодня корову, нашу красавицу, нашу кормилицу, как говорит бабушка Оля. Она серая, комолая, что, оказывается, значит безрогая. У меня для нее гостинец – кусочек хлеба, посыпанный солью. Она осторожно берет губами хлеб, а потом еще долго лижет мне руки шершавым языком. Тут же, за загородкой, куры. Заглядываю в гнездо – сидит пеструшка. Жду, когда она встанет, раскудахчется, и я принесу в дом яичко. Но она никак не встает, и я волнуюсь, не собралась ли в наседки. А наседка у нас уже есть, уже скоро должны быть цыплята. Подхожу к гнезду – хвать, и курица у меня в руках. Щупаю толстую пушистую попку и чувствую под рукой твердую округлость. Значит, яичко есть.
А с цепи рвется, весь исходя любовью и ревностью, пес по имени Светлый.
– Погоди, сейчас, сейчас, – кричу я и залезаю к нему в будку. Светлый одновременно визжит от восторга и поскуливает, жалуясь на то, что его посадили на цепь. Но иначе нельзя – он прыгает через забор и устраивает на базаре переполох. Поэтому до обеда, пока не разойдется базар, и сидит на цепи.
Светлого я нашла на улице маленьким щенком, и кто бы мог предположить, что он окажется чистопородной овчаркой – колли. Мы бы и сами об этом никогда не узнали, если бы однажды не пришел пограничник и не сказал деду, что хочет купить его для границы.
– Кого? – удивился дед. – Нашего кобеля?
– Да, – подтвердил пограничник. – Вашего кобеля.
– А где ж ты его видел? – опять удивился дед, хотя в этом не было ничего удивительного, потому что во внебазарное время пес носился с ночи до утра по улицам.
– Нет, не продам, – сказал дед, не дождавшись ответа, уточнявшего, где именно видел пограничник Светлого.
– Пятьсот рублей, – заметил пограничник, что было неслыханно дорого.
Тут дедушка уже удивился по-настоящему.
– За этого дурака-то?
– Выучим, это уж не ваша забота, – ответил пограничник.
– Шалавый пес, – сокрушенно сказал дед. – Беспутный. Он и двор-то не сторожит, чего ему на границе делать…
– Вот и продайте, раз шалавый, – пограничнику, видно, стал надоедать этот разговор.
– Нет, не продам, – твердо сказал дедушка.
– Вот чудной старик, – удивился теперь пограничник. – На что он вам, если шалавый и двор не сторожит?
– А так, привыкли, – и дед закрыл перед носом пограничника калитку.
Но тот уже за калиткой стал кричать, что если дед такой несознательный и не хочет продать собаку, то придется ее просто конфисковать, что в ближайшее время он и сделает.
– Ничего, это мы еще посмотрим, – уже не очень уверенно произнес дед. – Я завтра найду вашего главного военного, узнаю, можете ли вы частную собственность в образе собак конфисковывать.
И рано утром, надев парадную форму – белые парусиновые штаны и пиджак, дед отправился искать главного военного. Пришел он успокоенный, в прекрасном расположении духа и сказал, что главного военного нашел. Как я сейчас предполагаю – ходил он в военкомат и говорил с военкомом. Тот ему сказал, что отнимать собаку права не имеют. Тогда дед попросил выдать ему соответствующий документ, чтобы он мог показать его пограничнику. Но главный военный вроде бы рассмеялся и сказал, что документ такой выдать не может, но пусть дед запомнит его фамилию – Сафаров и сошлется на него, если придет пограничник. Но пограничник больше не пришел.
Со Светлым я обнимаюсь так же, как и с коровой. Хоть он не кормилица и вообще от него никакого проку, но люблю его даже больше коровы, и мне от этого немного совестно.
Вдруг Светлый вырвался из будки и начал весело прыгать. Оказывается, это пришел Мамашка оставить мешки и попить чаю. И Светлому совершенно ясно, что базар кончается. Я тоже бегу пить чай, потому что очень люблю Мамашку. Зимой, когда выдаются холодные дни, он приходит, еще не расторговавшись, чтоб отогреть озябшие руки, чем сбивает с толку нашего Светлого.
Руки Мамашка держит прямо над раскаленной чугунной плитой, покряхтывая от удовольствия, пока они не отойдут от мороза и не станут красными.
Но сейчас тепло, и они с бабушкой пьют чай и ведут очень странную беседу. Бабушка говорит по-русски, а Мамашка по-таджикски, но такое впечатление, что они понимают друг друга. Может быть, потому, что Мамашка, как и мои бабушка с дедушкой, воспитывает внуков – детей погибших на войне сыновей. Бабушка говорит про то, что жизнь налаживается, что уже отменили карточки, что внуки, слава богу, подрастают. И старик, по-моему, говорит то же самое, только по-таджикски.
Чай у нас не морковный, а настоящий, зеленый, и Мамашка крутит головой: «Ой, карашо, нагз7…»
Потом базарчик наш перевели в другое, более подходящее место, мы потеряли из виду Мамашку и даже думали, что он умер. Но однажды я, уже взрослой женщиной, вместе с мужем шла по большому базару по улице Путовского и вдруг услышала: «Гуля, Гуля», и увидела совсем дряхлого, старенького Мамашку, которому было уже, наверное, лет девяносто. Как в детстве, он протянул мне зеленую редьку…
И я сразу вспомнила наш базарчик. Вспомнила, как ела мешалду, как мы с мальчишками отвязывали ишака и катались на нем, пока увлеченный торговлей крестьянин не спохватывался и не обнаруживал пропажу. И как однажды я забралась на спину лежащего верблюда, а когда он неожиданно поднялся, испугалась высоты и заорала: «Мама…»
И еще вспомнила, как Мамашка приходил свататься за нашу бабушку Тоню. Бабушка Тоня, в отличие от бабушки Оли, очень быстро выучила таджикский язык, и, когда Мамашка заставал ее у нас дома, беседа принимала оживленный характер. Бабушка Тоня выступала в роли переводчика. Мамашка все горевал о своей жене-покойнице, сетуя на то, что вдвоем – он кивал при этом на моих бабушку и дедушку – внуков растить сподручнее, и однажды предложил бабушке Тоне перейти жить в его кибитку. Та, смущаясь, все же перевела его предложение. Бабушку Олю, которая относилась к Мамашке с явным расположением, озадачила его другая, мусульманская, вера.
– Тут поживут, а на том свете все равно по разным углам, – сокрушенно говорила она.
Дедушка, не веривший ни в черта, ни в Бога, посоветовал бабушке Тоне выходить за Мамашку замуж, и так век прожила бобылихой. Но бабушка Тоня сказала, что жениться на старости лет – людей смешить, и замуж не пошла. Однако с Мамашкой подружилась, частенько наведывала его, пока внучата были маленькие, и помогала по дому.
Бабушка Тоня пережила намного и моих стариков, и моего умершего молодым брата. Я была в отъезде, когда она покинула этот мир, а вернувшись, первым делом пошла не на могилу к ней, а вместе с сестрой Верой в тот поселок, где мы выросли, где торговал редькой на маленьком утреннем базаре Мамашка и где, на самом краю, у оврага, за которым начинались поля, жила бабушка Тоня.
По дороге сестра рассказала, что умерла бабушка Тоня быстро, немучительно. Прибралась в доме и вышла на солнышко посидеть, погреть свои старые кости. Да не дошла до скамейки – упала. И будто бы никого не звала и ничего не просила взять из рук, а только сказала: «Хорошо-то как, господи! Солнышко…»
Глава 2
Пока Алина Николаевна отправляла контейнер, соседи «обустроили», как могли, их быт. Два раскладывающихся кресла, столик, кухонная утварь – чайник, кастрюлька, несколько пиал вполне достаточно, чтобы прожить одну-две недели, пока оформят продажу квартиры и достанут билеты на самолет. На душе сразу полегчало. А самое главное – старый, черно-белый, но вполне сносно показывающий телевизор. Его принес Махсум. Он не был литератором, он был сыном самого знаменитого таджикского поэта, еще при жизни зачисленного в классики. Когда отец умер, они с сестрой отдали роскошный особняк под музей поэта, а взамен им выделили две квартиры на одной лестничной площадке в писательском доме.
– Ну как? – спросил Константин Леонидович. – Обошлось без проблем?
Алина отвела глаза:
– Все нормально, отправили.
– Что-то не похоже, что нормально, – вздохнул он, вглядываясь в лицо жены, и, поскольку Алина не отреагировала на его слова, добавил: – Вообще-то, обойти таможню, это, сама понимаешь, нарушить закон. Представляешь, что можно отправить в контейнере? И оружие, и наркотики…
Наверное, хотел таким образом утешить: что ж, мол, если все-таки досматривали, значит, так надо.
– Костя, милый! Да какие тут законы сейчас, о чем ты? Вывозят, кому надо, и оружие, и наркотики, не сомневайся, только платят побольше, чем мы заплатили, – голос предательски задрожал. Алина готова была опять сорваться на плач.
– Аля, тебя там обидели?
Алина улыбнулась сквозь слезы и лишь покачала головой. Обидели, были не слишком учтивы, не поняли – все это из плоскости других взаимоотношений.
Вообще, с той самой поры, когда появились первые лозунги «Русские, убирайтесь вон» или того хуже – «Русские, оставайтесь, нам нужны рабы», существование казалось Алине зыбким не только оттого, что могли убить в любую минуту, это была духовная зыбкость, ощущение ирреальности происходящего. Словно страшный сон, который невозможно стряхнуть, и хочется крикнуть что есть сил, но онемевшие губы не размыкаются, крик комком застревает в горле. Особенно остро такое состояние охватывало перед телевизором.
Ни одна из телевизионных программ не обходилась без слов в поддержку «молодой таджикской демократии, борцов за независимость республики и роста национального самосознания», в то время как поднимали голову исламские фундаменталисты, ваххабиты. И даже после черного февраля 90-го года с экранов центрального телевидения неслось возмущенное: «Молодую демократию пытаются затоптать сапогами русских солдат… В столицу Таджикистана введены войска… Преступное правительство отдало приказ стрелять в свой народ…»
Вы что, ребята, с ума там посходили? Ничего не знаете или не хотите знать? По-вашему, это демократы жгли и крушили прекрасный город? Борцы за независимость затаскивали в пустые автобусы русских женщин, а также таджичек, одетых по-европейски, зверски насиловали, а потом выбрасывали их, полуодетых и полуживых? Это возросшее национальное самосознание позволяло им врываться в квартиры русских и расстреливать целые семьи?
Алина металась по квартире, не в силах успокоиться.
– Костя, ну ты подумай, что они говорят! Ведь, если бы не ввели войска, нас, как и многих, уже бы не было в живых. Это же как дважды два. Войска ввели поздно, это да… Вот о чем надо бы говорить. И вообще, можно же рассуждать логически: если озверевшая толпа (свой народ) кинулась убивать мирных жителей (тоже свой народ), что все-таки лучше: позволить убивать или остановить ее силой? Нельзя же все выворачивать наизнанку. Нет, что-то они там не понимают. Надо что-то делать, писать…
– Алина, ты уже сама не в состоянии мыслить логически. Все всё знают. Ну, посуди – это же не вчера все началось. Работали фискальные службы. Здесь живут собкоры многих центральных газет, приезжают спецкоры… Да сколько душанбинцев разлетелось по всему свету! Честное слово, ты как ребенок, такую ерунду говоришь.
Но Алина не отступалась, писала, передавала свои статьи с отъезжающими в Москву. Не печатали, не отвечали. Не докричаться, не стряхнуть тяжелого сна…
И все-таки, пытаясь осмыслить отношение Москвы к тому, что творилось в Таджикистане, однажды, как ей показалось, она дошла до сути. Скорее всего, исламские фундаменталисты должны были свергнуть коммунистический режим республики, а «за ценой мы, как всегда, не постоим!»
Вспомнила, как демонтировали памятник Ленину. Монумент вождя с указующим перстом в центре города давно уже ничего, кроме раздражения, у них с Костей не вызывал, но, господи, как они его «демонтировали»! Свалив огромный памятник, железными прутьями отбивали на руках пальцы, выдалбливали глаза, забравшись на него, устроили дикие танцы, наконец, мочились… Недели две, пока бандиты удерживали город, таджикское телевидение без конца транслировало эту хронику. Смотреть было страшно и жутко.
– Ну, ладно, – рассуждала Алина. – Предположим, с коммунистами они справятся. Но кто потом справится с ними? Неужели Афганистан никого ничему не научил?
Ответа на этот вопрос не было.
На ночь разложили кресла, поставив их рядом, так, чтобы можно было дотянуться друг до друга, взяться за руки. Ночи были тревожными, со стороны реки Душанбинки время от времени доносились одиночные выстрелы, – к ним, насколько возможно, успели привыкнуть. Хуже было другое – вой голодных зверей из зоопарка, когда-то считавшегося одним из лучших в Союзе. Располагался он совсем недалеко от их дома – одна коротенькая троллейбусная остановка. Когда-то Алина водила по выходным дням туда детей, потом они бегали сами.
Теперь зоопарк вымирал. Оленей, лосей, других парнокопытных убивали на мясо. Дикие звери были никому не нужны. По ночам их вой выворачивал душу. Алина прятала голову под подушку, зажимала ладонями уши, но это не помогало. Вот раздался трубный плач слона, вот тоскливо растянутый рык льва, а это завывают волки…
Поднималось давление, но Алине казалось, что это леденящий душу вой пульсирует, бьется в голове и вот-вот разорвет ее изнутри.
Часам к трем звери, видимо обессилев, затихали. Вот и сегодня наступила наконец благословенная тишина. Ничего, кроме ровного дыхания мужа. Алина потянулась к нему, прижалась щекой к щеке, и Костя, не просыпаясь, дотронулся теплыми губами до ее уха.
Все, успокоиться и уснуть. А пока не уснула, думать только о хорошем, о будущем. Конечно, хорошего было мало, а будущее проглядывалось смутно. И все же, и все же…
Едут они не в никуда, как многие, а к сыну Андрею, во Владимир, город, странно обозначившийся в их судьбе. Когда-то Алин брат Витюня, в ту пору студент московского вуза, поехал на зимние каникулы в гости к сокурснику. И надо же – встретил там свою судьбу, женился и, окончив институт, в Душанбе не вернулся. К сожалению, умер молодым, в 35 лет. Но зато там, в далеком Владимире, есть родная могила, живет его семья: жена и дочка.
И вот ведь какая круговерть получается. Много лет спустя сын Андрей, в ту пору молодой ученый биолог, улетел в Москву, как сказал родителям, по делам, связанным с защитой кандидатской диссертации. Из Москвы завернул во Владимир навестить жену Витюни и познакомиться с двоюродной сестрой Ларисой, которую никогда не видел, и… тоже влюбился во владимирскую девушку. Ненадолго приехав в Душанбе, отказался от защиты, уволился с работы. Уверял, что давно думал заняться бизнесом, а во Владимире такая возможность есть, что в Москву ездил, на самом деле, чтобы поступить в экономическую академию – и поступил… «Сейчас другое время, быть нищим ученым я не хочу…»
Для Алины и Кости понятия «бизнес», «коммерция» были чем-то чужеродным, даже пугающим. Но отговаривать сына не стали, да он бы и не послушал. Между тем дела у Андрея шли, видимо, неплохо: когда в Таджикистане началась гражданская война, стал передавать с оказией деньги и продуктовые посылки, настаивал на их немедленном переезде, обещал всяческую поддержку. Но они все тянули, все надеялись, что образуется…
Был и еще один знаковый момент. Недавно, писал сын, главным военкомом области был назначен генерал-майор Николай Алексеевич Сеньшов, бывший командующий 201-й дивизии, базирующейся в Таджикистане. Это он 11 февраля ввел войска в Душанбе, когда все они были на волоске от смерти. Много позже Алина узнает, что он целый день звонил в Москву Язову, докладывая обстановку, но тот тянул, мямлил и так и не дал приказа. Сеньшов всю ответственность взял на себя…
Значит, чем-то предопределен для них этот город, значит, судьба, – уговаривала себя Алина, изначально намереваясь думать о хорошем.
Опять же – любимая младшая дочь, похожая на отца, красавица Сашенька живет в Ленинграде. Как уехала учиться после школы, так и осталась там. Вышла замуж, но неудачно, разошлись, теперь мается в каком-то рабочем общежитии с маленькой дочкой. Одна была радость – каждый год приезжала в отпуск к родителям, но вот уже три года не виделись. А Владимир от Ленинграда недалеко. Россия, одним словом. Может быть, вообще съедутся, станут жить вместе.
Старшая дочь Лена живет пока здесь, в Душанбе, работает в «Вечерке», газете, которая в последние годы из информационно-развлекательной превратилась в боевой листок. Летает с военными из 201-й дивизии на вертолетах в командировки не то что в горячие, а в горящие точки. Уезжать они договорились вместе. У Лены своя однокомнатная квартира тоже в центре города, осталась от мужа. Насчет продажи она тоже договорилась со знакомым кинооператором. Зять Фима уехал в Израиль три года назад, она наотрез отказалась: «Здесь я журналистка, там буду посудомойкой, если повезет. И вообще, человеком второго сорта».
Алина тогда резко ее оборвала:
– Просто ты никогда не любила Фиму по-настоящему. Я за твоим отцом на край света пешком бы пошла.
Так или иначе – осталась с восьмилетним сыном Димкой. На время командировок подкидывает внука бабушке с дедушкой. Правда, вот уже два месяца, как у нее появилась жилица. Знакомый офицер-пограничник привел к ней молодую девушку, одетую в огромную солдатскую шинель поверх мужского белья. Рассказал:
– Вот такая неудача. Приехала из России к брату на заставу, в Московский район, а заставу всю вырезали, ее с собой захватили. Вчера отбили, живая, слава богу. Ты, Лена, переодень ее во что-нибудь женское, пусть отлежится, а мы через недельку бортом в Москву отправим, там недалеко от дома, доберется на электричке.
Несколько суток Настя, так звали девушку, пролежала в постели и была словно в забытье. Потом стала потихоньку двигаться, разговаривать. Пограничник появился, как обещал, через неделю, сказал, что завтра отправят, пусть будет готова. Однако когда Алина позвонила дочери через три дня, оказалось, что Настя все еще никуда не улетела.
– Что, не приехали за ней? – поинтересовалась она.
– Приезжали, – ответила Лена, – но Настя не смогла улететь. У нее сильное кровотечение.
– В больницу ходили?
– Нет. Она не хочет…
Алина пошла к дочери разобраться, в чем дело.
Глянула на Настю – та как тень, ни кровиночки в лице.
– Ты что, Лена, – возмутилась Алина, – соображаешь хоть что-нибудь? Ну, она не в себе, а ты как, нормальная? Мало у нас в моргах невостребованных трупов?
Родильный дом от Лены через дорогу, там же женская консультация, в городе, к счастью, затишье, выстрелы слышны только по ночам. Неужели трудно было сходить?
– Быстро в душ – и одеваться! – скомандовала Алина, и Настя молча повиновалась.
В роддоме Алина нашла свою знакомую – пожилую армянку Ануш Хачатуровну, акушера-гинеколога, попросила посмотреть девушку. Полная, шумная Ануш обняла Алину:
– Конечно, посмотрю, сейчас посмотрю, дорогая… Я думала, вы уехали. У меня все друзья уехали. Евреи – в Израиль, немцы – в Германию, русские – в Россию. Нам куда ехать? Здесь воюют, в Армении тоже воюют. Что за жизнь… Ну, пойдем, девочка, пойдем, дорогая.
Вернулась минут через сорок, без Насти.
– Алина, она кто тебе? – не дождавшись ответа, запричитала: – Что они с ней сделали, звери, звери… Сколько человек насиловали? Она сама не знает. Или не говорит… Веришь, я такие разрывы только после тяжелых родов видела. Швы накладывать надо. Как кровью не истекла, а? Как заражение не случилось? Ай-ай-ай… Бедная девочка, она ведь девственница была…
Через несколько дней Лена забрала Настю домой, но пограничники, видимо, о ней забыли.
– Ты бы подсуетилась, Лена, напомнила бы им или попросила военных из 201-й, пусть отправят девушку, – беспокоилась Алина.
Та обещала, но неохотно, отговариваясь делами, пока однажды не заявила:
– А куда ей ехать? Мать умерла, только брат и оставался, теперь и его нет. Пусть живет.
– Лена, что значит «пусть живет»? Ну, нет близких, есть, может, дальние родственники. Какое-то жилье после матери осталось. А главное, там не стреляют. Мы ведь и сами уезжать собираемся.
– Ну, вот тогда и решим.
Приводить еще один аргумент – как прокормить взрослого человека в голодном Душанбе, Алина не стала. Непременно услышала бы укоризненное: «Мама, тебе что, жалко?»
Больше к этому вопросу не возвращались. Уезжая в командировки, дочь оставляла теперь сынишку с Настей – это было удобней, Алине не приходилось водить его в школу, а после уроков встречать.
Уже засыпая, Алина вспомнила, как вскоре после февральских событий 90-го пришла на железнодорожный вокзал, надеясь среди отъезжающих встретить знакомых и попросить бросить в Москве письма, иначе они не доходили. Ничего не получилось: поезд брали на абордаж, к вагонам было страшно подступиться. Один к одному – кинохроника революции и гражданской войны. И тут увидела портниху Люсю, с которой выросла в одном поселке и у которой время от времени шила что-нибудь из одежды. Та металась по перрону с зажатыми в кулаке смятыми деньгами, пытаясь пробиться к проводнику. В стороне с застывшим лицом отрешенно стояла ее двадцатилетняя дочь – единственный поздний ребенок. Когда поезд ушел, Алина окликнула Люсю. Та долго смотрела на нее безумными глазами, наконец узнала, они разговорились. Оказалось, что, когда озверевшая толпа громила город, Люся с дочерью волею случая оказались в ее эпицентре. Люсю несколько раз ударили, сбили с ног, едва не затоптали, дочку потащили в пустой автобус, разорвали на ней кофту, от изнасилования ее спасло только то, что в это время кто-то поджег автобус.
– Куда же вы, Люся, уезжаете?
– Не знаю пока. Доедем до Москвы, а оттуда до какой-нибудь станции на электричке. Сниму угол у добрых людей.
– Квартиру-то продала?
– Ты же знаешь мою квартирку. Кто ее купит, хрущевку в микрорайоне? На проезд деньги есть, да на первое время, а там что бог даст. В колхоз пойдем работать, шить стану. Нам бы только уехать, только бы от страха избавиться. И днем, и ночью боимся, я уже давно спать перестала. Только билетов достать никак не могу. Хотя тут и с билетами остаются на перроне. Кто влез, тот и поехал…
Вот ведь как уезжают люди. А им с Костей что – к сыну, к родне. Да там и земляков уже немало, во Владимирской области. Только Андрей пять семей перетянул, всех прописал, помог устроиться на работу. Все будет хорошо. Продать квартиру – и на самолет… Лишь бы продержалось это хрупкое равновесие, этот шаткий мир, эта договоренность недавно созданного коалиционного правительства…
Утром их разбудил телефонный звонок, и Алина вовсе не подосадовала на то, что прерван сон. Она уже давно относилась к телефону как к одушевленному существу. Вторую зиму не было ни отопления, ни газа, часто сидели без электричества, а телефоны в городе работали, ну не чудо ли? Если долго не было звонков, Алина поднимала трубку с замиранием сердца – вдруг оборвалась последняя связующая ниточка с родными и близкими? Услышав сигнал, вздыхала с облегчением и, бережно спуская ее на рычаг, приговаривала: ты уж держись, дружок, без тебя совсем будет худо.
Звонила Лена, вернулась вчера вечером из командировки, привезла тревожные новости: в Курган-Тюбе идут бои, на Гармском направлении стягивает силы полевой командир Махмуд.
– Лена, мы уже отправили контейнер, так что в понедельник еду с Шавкатом оформлять куплю-продажу. Ты тоже давай со своим «киношником» приходи, чтобы все сделать одновременно, не ждать друг друга. Здесь промедление, сама понимаешь, чему подобно…
Повисла долгая пауза.
– Мама, я не еду.
– Что значит не еду? У тебя что-то случилось?
– Ничего. Я собиралась завтра к вам прийти, поговорить, но, может, даже лучше сразу, по телефону. Понимаешь, мне надо самоутвердиться…
– Ну-ка повтори еще раз, чего тебе надо?
– Самоутвердиться. Что ж здесь непонятного? Все очень просто. Знаешь, я всегда была вашей дочерью…
– А это что, не так? Или теперь уже не дочь?
– Мама, не в этом смысле… Просто мне надоело, когда меня представляют: «А это Елена, дочь поэта Константина Пашкова…» Есть еще вариант: дочь писательницы Батуриной. А мне хочется, чтобы обо мне сказали просто: журналистка Елена Пашкова. Я не исключаю, что кое-кто и сейчас считает, что ты пишешь за меня репортажи, а я только фактаж привожу.
– Что за бред ты несешь! Значит, чтобы потешить свое самолюбие, ты готова рисковать не только своей жизнью, но и жизнью ребенка?
– Нет, ребенка отдам вам, так и быть, забирайте с собой в Россию.
Алина удрученно молчала, и Костя, внимательно прислушивавшийся к их разговору, взял из ее рук трубку.
– Ну-ка, давай, Лена, еще раз, четко и толково.
Слушал, ни разу не прервав и не переспросив, а в конце разговора сказал:
– Решила, значит, решила. Ты взрослый человек.
– Но, Костя!.. – вскрикнула было Алина.
– Пусть остается.
Алина пошла в кухню поплакать.
Много лет назад, когда девочки были еще маленькие, отец благословил их в дорогу таким стихотворением:
Измотанная дорогами,
Обалделая от забот,
Влюбленною недотрогою
Пусть каждая проживет.
Пройдет мимо лжи и зависти,
Через горе и трусость,
Благополучье покажется
Чем-то пресным и грустным…
В пеленках планета – нянчить,
В тревоге мир – приласкаться,
Идите в геологи, в прачки,
В физику, в авиацию,
Живите трудно и строго –
Благословляю в дорогу.
Благословляю цветами,
Зеленой вьюгой и ветром,
Благословляю утратами,
Надеждами и приметами,
Благословляю пустыней,
Морем и лунной ночью,
Хлебом, тоской и милыми,
Дочери мои, дочери…8
Сегодня он это благословение подтвердил. И с этим Алина ничего не могла поделать.
Фантик от ириски
В послевоенные годы в нашем поселке было много нищих. Не только своих, постоянных, но и временных, тех, кто побирался по поездам. Их еще называли вагонными. Добравшись до теплого города, они шли прежде всего в наш поселок, так как находился он сразу за железной дорогой. Правда, молодые калеки, особенно безногие, устраивались на ступеньках моста, перекинутого через рельсы. Душанбе (в то время – Сталинабад) был и остается тупиковой станцией. Поэтому многие побирались здесь лишь день или два и уезжали вновь с московским или ашхабадским поездом. Некоторые жили подолгу, а бывало, оставались совсем.
Так прижился у нас в соседях безногий Веня. На мосту он сидел вместе с парнем, у которого по локоть не было рук. Просили милостыню они не жалостливо, а весело, с прибаутками. Веня играл на гармошке, а Слава пел песни. Когда по мосту шли девушки, они заговаривали с ними, шутили, просили если не монету бросить, то хоть постоять, поговорить. Вечерами они отправлялись в «забегаловку», сколоченную прямо у моста и выкрашенную в голубой цвет. Веня ел сам и кормил с ложки Славу, а также подносил ему стаканчик с водкой, и тот ловко прикусывал его за край и, моментально вскинув голову, опрокидывал. Ему даже хлопали за это. А потом они шли вместе в железнодорожный парк. Вернее, Слава шел, а Веня ехал рядом на своей платформочке. Контролер тетя Даша бесплатно пропускала их в летний кинотеатр. Была она некрасивая, рябая, с тремя детьми, но жила в хорошем добротном доме, у нее была небольшая пасека. Она-то и приглядела для себя Веню. В поселке выбор ее одобрили. Говорили: какой-никакой, а мужик. И никто не подумал о безруком Славе. Несколько дней он тоже пожил у тети Даши, а потом она его выпроводила. Я играла во дворе с детьми тети Даши и все это видела. Слава не хотел уходить, плакал и все смотрел на Веню, а тот молчал, хотя тоже утирал рукавом слезы, а Славе даже утереться было нечем.
– Ступай-ступай, – торопила
тетя Даша. – Что ж теперь делать. Тебя, сам понимаешь, ни к какому делу не приспособишь. А иждивенцев у меня своих трое.
Тогда я побежала домой и кинулась к бабушке:
– Давай возьмем Славу себе замуж, – просила я. – Он даже есть сам не может!
– За кого же мы его возьмем? – вздохнула бабушка. – За тебя или за меня?
– Конечно, за меня. У тебя дед есть, и ты-то только стариться будешь, а я, пока он поживет, подрасту.
Была уверена, что моя добрая бабушка согласится, но она не согласилась. Только собрала немного еды, сложила в полотенце, оставив свободными два конца, и сказала: догони, подвяжи к плечу. Встретит добрых людей – покормят.
Но я его не догнала.
По поселку же в основном ходили старики и старухи, а также молодые женщины с детьми. Иногда забредали величавые старцы-дервиши с высоким посохом, в цветных ватных (даже летом) халатах-чапанах.
Бабушка всегда подавала нищим. Когда раздавался стук в окно и слышалось: «Подайте Христа ради…», она отдергивала шторку и, взглянув на того, кто за окном, посылала меня с куском хлеба, иногда, если за юбку женщины держались дети, добавляла несколько леденцов или яблочек, или пару яиц. Смотря что было под рукой и в доме вообще. Но иногда, не знаю, по какому выбору, она приглашала приезжих нищих в дом, угощала чаем, а то и супом, детям давала молока и подолгу говорила с ними.
Однажды в теплый летний день пришла к нам в дом цыганка с маленьким ребенком. Была она молодая, но больная, прикладывала руку к животу и жаловалась: «Так здесь печет, хозяюшка, прямо огнем горит». Лицо у нее было в бурых пятнах, а губы потрескавшиеся, заветренные. Она чем-то особенно расположила к себе бабушку. Возможно, долгим жалостливым рассказом о своей жизни. Бабушка, нагрев на керосинке воды, помогла ей обмыть ребенка, дала под пеленки хоть старые, но чистые тряпки, затем, вручив цыганенка мне, они сели за стол. Бабушка покормила цыганку, напоила чаем, затем составила на край стола чайник, пиалки, сахарницу, другой же край насухо вытерла полотенцем, а цыганка вытащила из-за пазухи колоду замасленных карт и стала веером разбрасывать их по столу. При этом она о чем-то расспрашивала бабушку, та отвечала, но разговора я не слышала, так как у меня на руках разорался цыганенок.
– Иди-ка во двор, займи ребенка, – распорядилась бабушка.
Во дворе малыш довольно скоро успокоился и уснул. Но все равно гадание я, можно сказать, прозевала. Когда вернулась, цыганка уже собирала карты, приговаривая:
– Вернется, вернется… Но будет как разбитый самовар.
Я сразу догадалась, на кого гадала бабушка. Фраза меня просто заворожила. Вечером я рассказывала подружкам:
– К нам вернется дядя, но будет как разбитый самовар.
– А как это, как разбитый самовар? – спрашивали меня.
– Не знаю, – пожимала я плечами. – Наверное, у него все будет разбито: голова, руки, а главное – живот.
– Почему живот?
– Потому что – как самовар.
С того вечера я стала ждать таинственного дядю Сашу, мужа тети Аллы, сестры моей мамы.
Тетя Алла считалась в семье красавицей. У нее были черные пронзительные глаза, черные, гладко зачесанные назад волосы и бледное строгое лицо. Одевалась тетя всегда в темное платье с белым кружевным воротничком. Воротнички она вязала сама крючком из простых, катушечных ниток. Платье обязательно с рукавом по локоть, даже в самую жару. А почему по локоть – это был секрет, про который рассказала мне бабушка.
Когда бабушка была еще молодой и жила в России, к ним приехал погостить дальний родственник, молодой парень Митя. Через несколько дней Алла подошла к бабушке и спросила:
– Можно мне Митя на руке что-то нарисует?
– Пусть рисует, все равно сегодня баню топлю.
И он нарисовал солнце с острыми лучами и под ним – летящую чайку. Вечером бабушка повела детей в баню, вымыла малышей, а как дошло дело до Аллы, увидела, что рука у той вспухшая, а рисунки почему-то не смываются. Про татуировки она в то время и слыхом не слыхивала. А тетя Алла, ставшая комсомольским вожаком, а позже учительницей, никогда не позволила оголить себе руку до плеча. И, когда на реку ходили, купалась от всех в отдалении. Вот такую память оставил о себе родственник-«художник». А вот дядя Саша действительно был художник, хоть и непрофессиональный. В доме у нас висели две картины, написанные маслом на фанере. Фанерки были длинными и узкими и поэтому, видно, висели, как иконы, в углах. На обеих – только вода и небо. Но одна розовая, почти красная, с яркими сполохами зарниц в небе – и таким же отражением их в воде, а другая – черная. Черное небо и черная вода. Перед Пасхой бабушка каждый год белила, я же помогала ей с уборкой. Картины и фотографии под стеклом снимались со стен, мне надо было очистить их от пыли, а картины еще смазать постным маслом и потереть разрезанной луковицей. Быстро справившись с фотографией и красной картиной, я замирала над черной. Глядела на нее, не отрывая взгляда, вода и небо сливались в одно темное пятно, и оно становилось огромным. Казалось, я сижу над черным омутом и он сейчас проглотит меня.
Бабушка очень сердилась, заставая меня над картиной.
– Я ей печку разожгу, будешь так смотреть, – говорила она.
– Почему? – не понимала я бабушкиной сердитости. Но объяснения ее были еще непонятней:
– Потому что тоска от нее находит…
О дяде Саше бабушка говорить не любила, сразу замыкалась в себе, но кое-что я все же знала. Например, что он сын священника, школьный учитель, человек очень образованный и интеллигентный и что пострадал за лишнее слово… «Сказал что не надо и при ком не надо». Это было трудно понять. Что же мог сказать дядя, если после слов этих вот уже двенадцать лет жил где-то на Севере, а тетю Аллу, которая преподавала в школе милиции, вместе с двумя детьми выгнали из квартиры – «и это еще хорошо обошлось»: она с дочками приехала в Среднюю Азию, к нам.
Еще из обрывков разговоров взрослых слышала, что был некий майор, которому нравилась тетя Алла, что это благодаря ему «еще хорошо обошлось» и что, может быть, зря она уехала, майор уговаривал остаться, а так – прожила одна в самые-самые годы и еще неизвестно, чего дождется и дождется ли. Вот и дергается с тех пор.
Тетя Алла действительно дергалась. Через определенное время она будто бы отводила чуть назад левое плечо, потом дрожь пробегала по шее, а затем чуть вскидывался подбородок. Видела в кино, как красивая актриса на признание в любви гордо ответила: «Нет, никогда!» – и при этом повела плечом, вздернула подбородок. Про себя решила: наверное, майор, который помог тете Алле, тоже объяснился ей в любви. Она ответила: «Нет, никогда!», и с тех пор в ней это так и осталось.
Вообще, тетя Алла была очень гордая, они с бабушкой часто ссорились. Иногда по мелочам, а однажды так серьезно, что тетя Алла ушла от нас на частную квартиру и долго не приходила. Не знаю, с чего началась эта ссора, я вошла в дом, услышав бабушкины слова:
– А я ведь просила, я умоляла вас. Я у вас в ногах валялась, а вы!.. Может, и Тая с Аней живы были, и ты бы не маялась…
– Глупости! – плечо и подбородок у тети Аллы дергались чаще обычного. – Глупости! Стыдно слушать. Люди это творят, понимаешь, люди, а не Бог! А будешь корить – уйду от тебя. Не пропаду.
Бабушка после той ссоры долго плакала, рассказывая:
– Когда она мне сказала, что завтра пойдут на комсомольское собрание и будут сбрасывать все вместе с себя крестики, я всю ночь не спала. Просила: не берите греха на душу. Проклятий людских побойтесь! Но они красные косынки повязали и с песней… Алла, Тая да Аня. Только Катюша младшая не пошла, меня пожалела: ей тогда лет пятнадцать было. Катюшу на другой день из комсомола исключили. Алла же и исключала. Говорит: не место ей в наших рядах…
У бабушки из четырех дочерей в живых две остались: Тая, после того как сбросила крест, пришла вся разгоряченная, достала из погреба холодного молока, выпила, а ночью в жару стала метаться: крупозное воспаление легких. Умерла через три месяца от скоротечной чахотки. Мама погибла в самолетной катастрофе. Алла мается без мужа, и только Катюша живет припеваючи. Она не похожа на сестер – кудрявая, светловолосая, ровный носик обсыпан веснушками. И кажется такой молодой, что все племянники зовут ее просто Катюшей. Да и характером она смешливая, веселая, хорошо играет на гитаре и любит делать подарки. Муж у нее поляк, дядя Юзек, большой начальник в Совнаркоме. Жену свою обожает, но ревнует даже к дереву, как говорит бабушка, и оттого не разрешает работать. Живут они в центре города, в настоящей квартире с ванной и туалетом, с горячей водой. Катюша все зовет нас купаться, и мы несколько раз ходили, но бабушке не нравится. «И голову там моешь, и задница, прости господи, там же. Не по-людски», – ворчит она, возвращаясь домой.
В общем, получилось так, что лишь Катюша из всех дочерей оказалась счастливой, и бабушка, конечно, по отсталости своей, считает, что это все из-за крестов. Мне хочется возразить – ведь бог – это один обман, зачем же нужны тогда кресты? Но жалко бабушку, и я молчу. Укладываюсь спать на сундук – большой, деревянный, потемневший от времени. В нем всякая всячина – зимние вещи, пересыпанные нафталином, альбомы с фотографиями, мамины журналистские блокноты. И еще два свертка по разным углам. В одном – то, что приготовила себе на смерть бабушка, чтобы «не попасть впросак», а во втором… Когда после долгих поисков обнаружили наконец в горах самолет, потерпевший катастрофу, за погибшими, среди которых была моя мама, отправилась специальная экспедиция. Вместе с экспедицией – дядя Юзек и мой отец, приехавший с Памира, где он жил и работал последние годы. Бабушка уже знала, что хоронить будут в цинковых гробах, поэтому белье, платье, тапочки отдала отцу и дяде Юзеку, чтобы одели покойную там, раз уж здесь не будет такой возможности. Вернувшись, отец молча отдал бабушке сверток, пробормотав что-то вроде «не пригодился».
Лучше бы он выбросил его по дороге! Как плакала, причитала бабушка! Даже на похоронах, над цинковым гробом, она так не убивалась.
И все-таки странно, что, когда бабушка встала на колени, мама, такая добрая, не пожалела ее. А может, пожалела? Конечно, пожалела, но все равно пошла. Потому что тетя Алла запела: «Весь мир насилья мы разрушим…» И вообще – комсомольцы не отступают! – эта мысль как-то успокаивала, оправдывала мамин поступок.
С того дня, как гадала цыганка, прошло два года. Я дядю уже и ждать перестала. И дома про него почти не говорили. Приехал он неожиданно. Поздно вечером раздался в окошко стук. Стук был неожиданный, это точно. Нищие ходили по утрам, да их уже и поубавилось. Соседки, если стучали в окошко, тут же подавали голос: «Ольга Александровна!» Или просто «Александровна!» Меня, моих сестер и братьев просто выкрикивали по именам, без стука. А тут вдруг «тук-тук» по стеклу, и молчание. Бабушка отдернула шторку, пригнувшись, долго всматривалась в темноту за окном, затем выпрямилась и так глянула на тетю Аллу, что та побледнела сразу и судорога у нее по шее раз, другой, третий... Поднялись молча и пошли к калитке. И тут я догадалась. Пришел, вернулся «как разбитый самовар…»
Во дворе всхлипы. Плачут обе, в дом не идут. И мы тогда тоже выскакиваем во двор. Мужчин двое. Интересно, кто второй? И какой из них – дядя Саша? Наверное, вот тот, высокий. Бабушка говорила: он богатырского роста, и фамилия у него подходящая – Богатырев. Что они топчутся на улице, не спешат в дом? Оказывается, надо переодеться. Я слышу: «Вши…» Бабушка торопливо роется в сундуке, достает какие-то рубашки, штаны, выносит во двор, мужчины идут в душ. Там хоть и темно, зато вода в бочке почти горячая – так нагревается за день. Одежду выбрасывают через верх, бабушка собирает ее, идет в угол двора, где стоит дощатый туалет, кладет наземь, поливает керосином и чиркает спичкой.
Тетя Алла собирает на стол, жарит яичницу. Гости входят в дом, усаживаются на скамейку, и я во все глаза разглядываю дядю Сашу. Одежда на нем висит мешком, но штаны короткие, чуть ниже колен, и я замечаю, что одна нога у него раздутая, как толстое полено, ступня уродливая, кривая, а другая нормальная. А так больше никакой разбитости. Лицо очень морщинистое, и, кажется, нет зубов. «Обманула цыганка», – думаю почти разочарованно. Зато друг у него, которого зовут Лев Самуилович, – это, конечно, похуже, чем разбитый самовар. Маленький, бледный, волос на голове нет, зато над правым виском огромная вмятина, прямо дыра, и видно, что кости там нет, одна кожа, а под ней что-то вздрагивает, бьется, пульсирует. Стою рядом и гляжу на эту голову разинув рот. Бабушка бросает на меня строгие взгляды, я отворачиваюсь, но все равно искоса поглядываю на Льва Самуиловича. Тут к нему подошла кошка, потерлась о ногу, он нагнулся погладить ее, и я с ужасом заметила, что яма превратилась теперь в бугор, из нее что-то как будто вывалилось и нависло надо лбом, продолжая пульсировать. Невольно наклонилась вместе с ним, но бабушка, поняв, что взглядом меня не проймешь, сердито дернула за руку, и я отошла в другой угол комнаты.
Люба с Ниной глядят только на отца. А он еще слова не вымолвил. Не спросил даже, кто где, не поздоровался. И лишь когда выпил рюмку водки, поднялся, протянул к ним руки. Люба подошла первая, но как бы нехотя, так же нехотя позволила отцу обнять себя. Ей уже семнадцатый год, тетю Аллу и бабушку она не слушается, стала «загуливаться», вечерами ее зовет коротким свистом на улицу какой-то чужой, не поселковый парень в кепочке, с золотой фиксой. Бабушка грозит: «Вот придет отец, он с тобой разберется».
– Подумаешь, отец! Он что, меня воспитывал? Пусть только слово скажет! – огрызается Люба.
– Взрослая! Совсем взрослая, – шепчет дядя Саша, гладит рукой густые Любины волосы. Они у Любы медно-рыжие, в деда. Дед недаром говорил: рыжий человек неистребим. С кем его ни мешай, все равно пробьется. И действительно: я была рыжей, и у тети Аллы – обе дочки, хотя и она, и мама черные. Но Нина с Любой рыжие по-разному. У Любы волосы хоть рыжие, но очень темные, веснушек нет, глаза как угли, брови и ресницы тоже черные. Нина же светленькая, бровей и ресниц не видно вовсе, и вся в круглых ярких веснушках. Бабушка не разделяла непонятной гордости деда принадлежностью к рыжим. Но, встречая женщин, крашенных в рыжий, радовалась:
– Слава богу, теперь рыжих хоть поддержали. Раньше в деревнях, бывало, задразнят. А сейчас, надо же, сами красятся. Так что и мои внучки не пропадут, в самую моду попали.
Люба отстраняется от отца, лицо у нее бледное, губы сжаты. И тогда ему на шею бросается Нина. Тычется в грудь носом-кнопочкой и ревет: «Папочка, родненький…» А ведь она, в отличие от Любы, совсем его не помнила.
Мне тоже захотелось тут же заплакать, я уже шмыгала носом. Но тетя Алла командует: «Всем спать!»
Когда приезжают гости, мы, дети, укладываемся спать на полу. Расстилаем ватное одеяло, а под головы сворачиваем телогрейки. Есть еще одно спальное место – сундук, и я успеваю его занять: «Чур, я на сундуке!» Идти укладываться на пол нужно в другую комнату, а сундук стоит здесь же. Бабушка опять качает головой, молча коря меня за неуемное любопытство. Я уверяю, что усну тут же, сразу как лягу. Но сама только притворяюсь, слушаю разговоры взрослых и даже одним глазком подсматриваю за ними, и таким образом узнаю историю про колечко.
– Ты заезжал к матери? – спрашивает тетя Алла.
– Да, – кивает дядя Саша. Достает из кармана что-то блестящее и начинает катать его по столу. Я даже приподнимаюсь, чтобы увидеть, что же это такое.
Под Москвой у дяди Саши живет мать с младшим сыном, Евгением. Евгений этот писатель, человек известный, но от дяди Саши отказался, когда тот попал в беду, – это я слышала не раз. И теперь дядя катает по столу колечко, долго молчит, но даже я понимаю, что оно как-то связано с его домом, с родными. Наконец рассказывает:
– В дом Евгений не пустил. Ночевали в сарае. А утром мама тайком принесла колечко. Знаешь, она совсем старенькая. Плачет и просит прощения. А про кольцо сказала: – Продай, Сашенька, может, доберешься на эти деньги до Аллы. Больше мне дать тебе нечего. А оно дорогое, старинное, хорошей пробы.
– Но ты ведь не продал, – неуверенно говорит тетя Алла, хотя яснее ясного, что не продал, и подбородок у нее подпрыгивает вверх.
– Не продал, – соглашается дядя Саша. Колечко со звоном врезается в блюдце.
– А как же?
– Добрались, как видишь.
Потом мне приснился сон: катится по земле колечко, как волшебный клубочек из сказки, а за ним идут дядя Саша и Лев Самуилович…
Но это потом. А пока я слышу, как бабушка хлопочет – кому где постелить. Дяде Саше и тете Алле – на улице, на топчане. «А уж вам, Лев Самуилович, в коридоре – больше негде».
Но Лев Самуилович мнется, переступает с ноги на ногу и вдруг спрашивает:
– Ольга Александровна! У вас тараканы есть?
Бабушка обиженно поджимает губы. Мне хочется крикнуть: «Есть, есть!» Тараканы у нас живут под печкой, они совсем не нахальные, по столу не лазают, к тому же не какие-то там залетные рыжие прусаки, а черные, те самые, что, как уверяет бабушка, водятся к деньгам и благополучию. Может, человеку неуютно без этих тараканов, зачем же она обижается? И Лев Самуилович это видит, оттого с таким волнением, заикаясь, начинает объяснять:
– Вы не подумайте… чтоб в осуждение. Ради бога, простите. Я просто их боюсь. Ну, очень. Поймите…
– Вот чудак! Ну, клопов бояться – это куда ни шло, они хоть кусаются. Но чтобы тараканов?!
Тут на помощь приходит дядя Саша.
– Ольга Александровна! Он действительно боится. Поэтому постелите ему на улице, а то он всю ночь на ногах простоит.
– Ну что ж, раз он такой боязливый, – сдается бабушка.
– Он не боязливый, – заступается дядя Саша. – Он человек редкой храбрости. А это у него как болезнь. Может несколько суток вообще не спать, если знает, что есть тараканы. Так что вы на него не обижайтесь.
Дядя Саша провожает друга во двор, возвращается в дом. Бабушка ложится рядом со мной на сундук. Дядя Саша садится за стол.
– Что же дальше? – спрашивает тетя Алла. – Как жить будем? Девчата уже большие. Люба от рук отбивается.
– Не знаю… Главное – работа. В школу меня теперь не возьмут, сама понимаешь. Если бы здоровье прежнее – я бы канавы рыть пошел. Только все во мне отбито-перебито. Я теперь, Алла…
И тут он произносит слова, от которых я так и подпрыгиваю:
– Я теперь, Алла, как разбитый самовар… И душа у меня вся выхолощена.
– Слышишь! – трясу я за плечи бабушку. – Помнишь, цыганка?
– Тише, тише, – шепчет бабушка, и я замечаю, что она тихо, почти беззвучно плачет.
– Поедем в район, – продолжает тетя Алла. – Шараф Ниязович поможет. Он сейчас в Курган-Тюбе директор хлопкозавода.
Я ни разу не видела Шарафа Ниязовича, только знаю, что это хороший человек и всем помогает. Вот и сейчас тетя Алла, помолчав, добавила:
– Хороший человек… – потом спросила: – Саша, а друг твой, у него что, родных нет? Кто он вообще?
– Это актер, был когда-то известен. Да ты знаешь – это же…
Дядя Саша произносит такую трудную нерусскую фамилию, что ни повторить про себя, ни запомнить ее я не могу.
– Боже мой! – ахает тетя Алла. – Боже мой!
– У него никого не осталось, – говорит дядя Саша. – Всех подчистую… Так что придется нам вместе…
Вспоминаю безногого Веню и безрукого Славу. Вдруг тетя Алла прогонит Льва Самуиловича? Ведь его, наверное, тоже в хозяйстве не приспособишь. Полголовы без черепа, да еще тараканов боится. Но она говорит:
– Конечно, конечно. Какой может быть разговор. Вместе так вместе.
Дядя Саша наклоняется и целует руку тети Аллы.
Тетя Алла – это, конечно же, не рябая тетя Даша. А этот Веня тоже… Мастерит рамки для уликов, по воскресеньям торгует медом, весело, с прибаутками. Будто и не было у него никогда друга Славы.
На другой день у нас собрались гости. Катюша пришла одна, у дяди Юзека какое-то важное совещание. Дядя Саша очень ей обрадовался, все спрашивал:
– Ты помнишь, как я тебя на плечах на речку таскал? Залезешь верхом – и потопали…
Катюша целовала дядю Сашу, заливалась смехом, играла на гитаре, пела красивые песни, надарила всем подарков – мне досталась красивая пластмассовая шкатулка. Тете Алле, конфузясь, сунула деньги, та отказывалась, пока сестра не заплакала. Но сидела Катюша недолго, чуть стало темнеть – засобиралась, забеспокоилась:
– Я бы еще побыла, мама, но ты же знаешь…
Бабушка, вздохнув, развела руками: «Что же, Катюша, делать. Терпи, любовь у него такая».
А еще через несколько дней тетя Алла, дядя Саша и девочки уезжали в Курган-Тюбе. Дядя Юзек дозвонился Шарафу Ниязовичу, и тот сказал, что возьмет дядю Сашу, бывшего учителя математики, на завод бухгалтером, а тетя Алла будет работать в школе.
– Кто он такой, этот Шараф Ниязович? – спрашиваю я бабушку.
– Хороший человек, – отвечает она. – Дай бог ему здоровья.
– Хороший человек – это я сто раз слышала. А кто он нам?
– Друг твоих родителей по Вахшстрою.
Перед отъездом Люба мне наказала: будут в школе спрашивать, куда уехали, – не говори. И этот, если придет – тоже… «Этот» – конечно же, парень в кепке и с фиксой. А что касается школы – то я тоже знала, о ком она беспокоилась.
Школа наша называлась железнодорожной, и мужская, и женская под одним номером, оба здания находились в одном дворе. Так что были мы, с одной стороны, и раздельные, как все, а с другой – и не очень. Уроки физкультуры и пения часто проводились вместе, общей была и художественная самодеятельность, которой руководил Таир Усманович. Многие учителя были приезжими, из эвакуированных. Жили они тоже во дворе школы в маленьких, наползающих друг на друга постройках. На переменках мы видели, как учительницы, свободные от уроков, готовили на керосинке еду, стирали в корыте белье и тут же развешивали его на веревках, протянутых между деревьями. Учительница литературы, маленькая, сухонькая Надежда Тимофеевна, жила вместе с парализованной матерью. Окна их квартиры выходили прямо на спортивную площадку, и иногда в них залетал тяжелый футбольный мяч. Услышав звон разбитого стекла, Надежда Тимофеевна выходила с веником и молча подметала осколки, никогда не пытаясь выяснить, кто именно разбил стекло. Потом еще долго окно смотрело слепой фанерой.
Рядом, в совсем уже малюсенькой комнатке, без прихожей и коридора, жила наша «немка», то есть учительница немецкого языка Ида Соломоновна. У нее была странная внешность, как будто ее взяли и слепили из двух разных людей. Маленькая, очень кудрявая голова покачивалась на тонкой длинной шее, плечи были узкими, талия тонкая, а вот все, что ниже талии, было тяжелым, неповоротливым. Ноги всегда перебинтованы, но если утром эти бинты были еще чистыми, то уже к полудню пропитывались желто-бурыми пятнами. Посмотришь на лицо – хорошенькая десятиклассница, а глянешь на походку – пожилая женщина…
У нее была собачка, тоже очень кудрявая, беленькая, говорили – французская болонка. Не знаю, у нас в поселке таких собак не было. Говорят, что спала собачка на кровати хозяйки, да еще на подушке, и что немка кормила ее колбасой, хотя сама ходила голодная. А зимой она надевала на свою болонку специально сшитую курточку – или как там ее назвать, с прорезями для ножек и хвоста и пуговицами на животе, чтобы та не простудилась. Собачка эта звонко тявкала, но ее все равно никто не боялся и не принимал всерьез, а немку считали малость «сдвинутой».
Стояла осень, и школа наша, как, впрочем, и остальные, пустовала. С середины сентября 6-9-е классы собирали хлопок. Сейчас, в октябре, поговаривали, что пошлют и нас, пятиклассников, и десятиклассников тоже: пошли ранние дожди, а с планом у республики – плохо. А пока, как мы говорили – «лафа!». Многих уроков нет – учителя ведь тоже на хлопке. Вот только Ида Соломоновна со своими больными ногами да математик с протезом, да худрук без руки всегда были при школе. Усиленно изучаем немецкий и математику, десятиклассники еще жмут на физику – у нас пока ее нет. С худруком – ребята за глаза его дразнят: «Худрук – без рук» (плохая дразнилка, а попробуй скажи им), так вот, с худруком мы готовимся к 7 ноября. Маршируем по плацу, поем песни и строим пирамиды.
Я эти пирамиды не люблю. Как одна из самых рослых, всегда стою внизу. Вместе с другими крупными одноклассницами, сцепив руки, мы составляем как бы платформу, на которую взбираются девочки поменьше, а им на плечи – еще меньше, а уж на самом верху у нас всегда Лиля Омельченко. Тонкая, гибкая, голосистая. Вскинув руки, она звонким голосом громко выкрикивает:
– Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!
Затем ловко спрыгивает, и пира
мида рассыпается.
Конечно, мы все завидовали Лильке. Казалось, что именно ее обязательно слышит товарищ Сталин, а может быть, даже видит – ведь из Москвы, из Кремля, он видит все и про всех все знает.
Сегодня мы опять разучивали пирамиды, хотя знали их наизусть, это только так называется – разучивать. А десятиклассники болтались по плацу, потому что у них не было уроков. Когда нас отпустил худрук, ко мне подошел Гена Омельченко, брат Лильки, десятиклассник. Я уже знала зачем – спрашивать о Любе, она училась тоже в десятом, только в женской школе, за ней все мальчишки «бегали», и Генке она тоже нравилась, но он всегда из себя что-то строит и за всеми следит, Люба его терпеть не может. Одевается как взрослый – носит пальто и шарф, которым закрывает пол-лица, хотя у нас ни одного мальчишку не заставишь шарф надеть, пуговицы на куртке или на телогрейке – и то не застегнуты, вся грудь нараспашку. Два года назад чуть не прославился этот Гена. Якобы встретил на улице Троцкого – решил, что тот пробрался из Турции к нам, в Среднюю Азию, надеясь, что здесь его не узнают. Мне по секрету все это рассказывала Лилька, она же на вопрос – кто такой Троцкий – ответила, что это главный враг Ленина-Сталина и что Гена его вот-вот «накроет». Потом оказалось, что худенький мужчина в очках с тонкой оправой и бородкой, инженер-железнодорожник, лет на тридцать моложе настоящего Троцкого, и мы с Лилькой жалели, что ее брат так ошибся. Наш пионерский отряд носил имя отважного Павлика Морозова, книжку о нем мы знали наизусть. Но Павлик разоблачил только своего кулака-отца. Если бы Генка разоблачил главного врага Ленина-Сталина, он бы, конечно, стал еще знаменитее. Тогда его именем вполне могла называться вся пионерская дружина.
И вот этот Генка подошел ко мне и спрашивает, куда Люба уехала. Я, как и пообещала, сказала, что не знаю, что они еще «не определились». Тогда Гена сказал:
– Чухнула, значит.
– Почему чухнула? – обиделась я. – Просто к ним приехал отец.
– Ты знаешь, с кем она встречалась? Вот этот, с фиксой?
Я пожала плечами, а Генка все подходил ко мне вплотную, надвигался, я отступала – и так мы оказались в углу двора.
– Любка ваша с бандитами связалась. Про «Черную кошку» слышала?
Про «Черную кошку» я слышала, но думала, что это где-то не в Душанбе и что этих бандитов уже поймали, о чем и сказала Генке.
– Да, сейчас, – презрительно усмехнулся он. – Поймали, да не всех! А они – везде, в каждом городе. И этот, что к Любке ходил, – главарь. Так что она доиграется…
Тут мне стало совсем не по себе. Бедная Люба! Но я старалась не показать вида.
– У нее отец теперь. Он знаешь какой сильный…
– Отец! А отец у нее, между прочим, враг народа, за что сидел в тюрьме. Вот. Но ты не бойся, я никому не расскажу. Только при условии – узнаешь Любкин адрес и дашь мне. Договорились?
Я молча киваю головой, стараясь не расплакаться. Про себя думаю – потяну-потяну, а потом Гена забудет, закончит десятый класс, куда-нибудь уедет.
Дома мне тоже было тревожно. Боялась, что придет еще и этот с фиксой – «черная кошка». Может, рассказать все бабушке и спросить, почему дядя Саша – враг народа? Но чем она поможет, только расстроится. Однажды я уже рассказала одну историю, услышанную от той же Лили…
Дело в том, что когда нас приняли в третьем классе в пионеры, а отряд назвали именем Павлика Морозова, мы часто спрашивали друг друга: а ты бы так смогла, как Павлик? И с уверенностью отвечали: конечно, смогла бы… Но при этом я всегда радовалась, что бабушка у меня ничего не прячет. А то бы… Бабушка упала бы на колени, просила бы меня, чтоб я никому не говорила, а я должна бы, как тетя Алла и мама, когда кресты бросали, – пойти и не оглянуться. Поэтому я отвечала, как все: «конечно», понимая, что ничего такого мне делать не придется. А вот мама Лили и Гены разоблачила настоящего врага. Лиля так про это рассказывала:
«У папы брат был авиаконструктор, самолеты делал, его поэтому на войну не взяли. Мой папа погиб, а брат его дядя Валерий жил в Москве, у них с женой и дочкой квартира большая-большая, а еще дача. Он маме написал, чтоб она взяла меня и Генку и приехала к ним на лето. Мы приехали и жили на даче с тетей Леной, дяди Валериной женой, и их дочкой Сонькой, купались на речке, и шоколаду было хоть сколько. А дядя работал в Москве и приезжал только в воскресенье, но и на даче все равно работал. Тетя Лена маме сказала: у него работа секретная и чертежи секретные. Ему их нельзя брать на дачу, а он берет, потому что не успевает. А потом моя мама заметила, что тетя Лена на Сонькином платье вышила самолет, она была шпионка и вредительница! Подсмотрела у дяди Валеры чертежи нового самолета и нарочно вышила. Сонька бегала в этом платье, а кому надо, врагам, они этот чертеж смотрели. Их сразу арестовали. Мама хотела, чтоб только тетю Лену, но дядю Валеру тоже арестовали, потому что он жил со шпионкой и приносил чертежи. А потом мама хлопотала, чтоб дачу оставили нам, потому что она ведь их разоблачила. Но дачу не оставили. А Сонька сейчас в детдоме».
Эта история произвела на нас большое впечатление, я ее наизусть запомнила. Не нравилась мне только концовка про дачу и еще было жалко Соньку – все же она не виновата, что отец и мать оказались вредителями. Поэтому, прибежав домой, я тут же принялась рассказывать все это бабушке и тете Алле, решив умолчать про дачу и про Соньку. А то получалось, будто Лилина мама не просто разоблачила врагов, а за дачу. Но мне и не пришлось рассказывать до конца, потому что тетя Алла, еще когда я только дошла до самолетика на платье, выскочила из комнаты со словами: «Какая мерзость!» Бабушка пошла вслед за ней и долго не возвращалась. Конечно, если бы я знала тогда, что дядя Саша – враг народа, я бы не стала про все это рассказывать.
В общем, бабушке я говорить ничего не стала. Этот, с фиксой, не приходил. Гена несколько раз спрашивал про адрес Любы, а я отвечала: пока ничего, ни одного письма – так оно и было на самом деле. Первая открытка пришла под Новый год. Тетя Алла писала, что у них все нормально.
Время шло, мы «строили» свои пирамиды, учились, пели с худруком песни, и вдруг такое событие – в Москве разоблачили врачей-вредителей. Все в школе только про это и говорили. Но больше всех это встревожило Гену. Мы с Лилькой сидели у них дома, когда он пришел со своим одноклассником Джамшедом, сдернул шарф с шеи, бросил портфель и сказал:
– Все, надо кончать с этой вражиной. Надо ей такое устроить, чтобы она отсюда вылетела в свое Бердичево.
– Кто? – спросила я.
– Эта Ида-Гнида. Сама жидовка, преподает фашистский язык… Она нам знаете что говорила? Немцы – это великая нация, у них Гете, Гейне… Вот и осталась бы с немцами, нечего было сюда драпать. Очень нам нужен какой-то Гете.
Ида Соломоновна была, наверное, плохой учительницей. До войны училась в аспирантуре, в школе раньше никогда не работала. На уроках у нее шумели, а она часто, вместо того чтобы учить правила, читала стихи сначала на немецком, потом, их же, на русском языке и даже пела. Но что интересно – слушать мы ее вроде не слушали, а песни и стихи запоминались.
Джамшед учился вместе с Геной. Учился очень плохо, вообще был туповатый, зато – лучший футболист в школе, играл за сборную города. А при Гене – как телохранитель. Сейчас он слушал его открыв рот и всем видом выражал готовность разделаться с вражиной.
– Надо вот что сделать в первую очередь. Свистнуть у нее собаку. «Мой песик, мой мопсик», – передразнивал Генка учительницу. – «Мой милый дружочек».
– А куда свистнуть? – спросила я.
– Ну, куда-нибудь. Отвести подальше и бросить.
– Можно убить, – сказал Джамшед.
– Вы что, с ума сошли? – закричала я. Лилька молчала, поглядывала то на брата, то на Джамшеда, то на меня.
– Убивать не будем, – поморщился Гена. – Просто уведем.
– Да она все равно умрет, вы что, не понимаете? – я чуть не плакала. Очень было жалко собачку, я на переменках с ней всегда играла. Про Иду почему-то не думала.
– Собаку тебе жалко! – возмутился Гена. – А тех, кого врачи-вредители убивают, тебе не жалко?
– Но она же не врач, – робко, уже без прежней запальчивости, возразила я.
– Была бы врач, всю школу бы давно отравила. Может, еще и отравит. А если ты не за нее, уведешь собаку со двора, она к тебе идет.
– Нет, – твердо сказала я. – Собаку уводить не буду.
Расплакалась и выскочила на улицу. Всю дорогу плакала, поэтому пошла не домой, а к тете Даше, вернее к Нельке, ее старшей дочери. Тетя Даша с Веней уехали на пасеку, и Нелька с младшими сестренками была одна. Нелька училась в четвертом классе, потому что осталась на второй год. Она была отчаянная девчонка, мать не слушалась, отчима вообще терпеть не могла. Воровала у него деньги, тот ругался на нее матом, грозился убить, но попробуй догони ее на своей-то платформочке. А когда кидался камнем или палкой, Нелька всегда успевала увернуться и показывала ему язык. Бабушка не то чтобы запрещала мне ходить к ним, но относилась к этому неодобрительно: Нелька сама материлась не хуже Вени. Но что теперь мне было за дело до ее ругательств…
– Нелька! – сказала я. – Что придумать, чтобы не ходить в школу хоть несколько дней?
– Заболеть, да и все. Притвориться.
– Нет, Нелька, мне надо взаправду заболеть. Притвориться не получится.
Бабушка моя очень недоверчиво относилась ко всякому недомоганию, разве что было оно совсем серьезным. Говорила: «Нечего болезни потакать». Сама, если плохо себя чувствовала, никогда не ложилась, а, наоборот, бралась за самую тяжелую работу в огороде или за большую стирку. Потом хвалилась: вот и болезнь отступила. Бывало, кто пожалуется, что голова болит, а она: «Это ты переспал». А если живот болит – значит, переел, не жадничай за столом. Вот и все диагнозы. Нет, заболеть надо по-настоящему, чтобы была высокая температура.
– Мне надо простудиться, Нелька.
– Давай и я с тобой простужусь. А то завтра мать с Венькой приедут и накинутся: то не сделала, другое…
Был конец февраля. Погода стояла слякотная, промозглая. Снега не было, а так, мелкий серый дождик. Мы разулись и стали бегать босиком по цементным дорожкам. Но этого показалось нам мало. Открыли настежь двери и окна, забрались на подоконник и сидели на сквозняке, пока не посинели от холода.
Пришла домой поздно вечером. Бабушка спросила:
– Ты что такая пасмурная?
– Не знаю, наверное, заболела.
Легла в постель, но еще долго не могла согреться и уснуть. Прислушивалась к себе – ничего не болело. Но ведь это не сразу бывает. К утру уж точно начнется жар, будет ангина, а еще лучше – воспаление легких. Тогда бы я долго-долго не ходила в школу, может быть, даже легла в больницу.
«Вот ведь как бывает, – думала я. – Еще недавно все было хорошо. А теперь оказалось, что дядя у меня враг народа, Люба знается с бандитами, а Лилька, с которой я дружила, заставляет увести такую хорошую собачку. Нет, надо обязательно заболеть. А еще лучше умереть».
С этими горькими мыслями я и заснула.
Утром, проснувшись, вскочила с постели и вдруг вспомнила про все вчерашнее. Прокашлялась – горло не болело. Температуры тоже, скорее всего, не было. Но бабушка, не признававшая никаких болезней, озабоченно глянула на меня и сказала:
– Что-то ты сегодня бледная. Оставайся дома, говорят, ходит страшный грипп, с осложнениями.
Послушно легла в постель. Почему же я все-таки не заболела? Может, и маленькая собачка Иды Соломоновны не простудится, когда ее уведут из дома и выбросят? А даже если не простудится, то все равно умрет с голоду или ее замучают мальчишки, такие злые, как Джамшед.
Конечно, если бы бабушка разрешила, можно было бы взять ее домой, но у нас есть своя большая собака, которая живет во дворе. Стала думать, кому бы отдать собаку. Может, Рене Левиевой. Она всегда ее гладит и даже целует. А ведь Рены вчера не было в школе. И Розы Гольман. Что они, обе заболели? Конечно, нет. Не пошли в школу, чтоб их не дразнили. И я сегодня не пошла… Ну уж нет… Фигушки им – и Лильке, и ее брату-сыщику.
Стала торопливо одеваться. Будь что будет… Пойду и расскажу Иде Соломоновне, чтобы спрятала свою собачку. А потом пусть делают, что хотят. Может быть, и вообще школу брошу.
Будь что будет! Пусть вслед мне кричат, что я за жидов, пусть Генка всем расскажет про дядю Сашу. Все – пусть.
Во двор школы прошла через «мужские» ворота. Сама окликнула Генку: «Привет, иди сюда!» А когда подошел, сказала:
– Вчера приходил этот, Любкин… Просил тебе передать, что если ты будешь спрашивать ее адрес, он тебя убьет.
Генка побледнел. Не такой уж он и храбрый, оказывается.
– А зачем ты ему сказала, что я спрашивал?
– Захотела – и сказала. Еще и про собаку скажу.
– Он что же, и за Иду будет заступаться?
– Будет. Попрошу – будет. Только тронь попробуй.
– Ты, слушай! Я наврал, что он «черная кошка».
– Все равно убьет, – пообещала я и пошла в свою женскую школу.
Розы не было, а Рена Левиева пришла, сидела на задней парте одна. Я села рядом. Несколько дней ждала, что меня будут дразнить или спрашивать про дядю. Но, видно, Генка очень испугался Любиного ухажера, и никому они с Лилькой не сказали. А вскоре нам всем стало не до этого: по радио сообщили, что тяжело заболел Иосиф Виссарионович Сталин. И взрослые, и дети – все ходили потерянные, жили от бюллетеня до бюллетеня, плакали.
И вот наступило пятое марта… На каждом доме полоскался на ветру красный, обрамленный черной лентой, флаг. На траурном митинге в школе плакали все – директор, учителя, школьники, и сквозь рыдания клялись всегда быть верными делу Ленина-Сталина.
Уроки в этот день отменили, но мы все равно зашли в класс, не в силах разойтись. Ведь это было наше общее горе, и мы спрашивали друг друга, как теперь будем жить без Сталина. И каждая девочка говорила о том, что если бы можно было отдать за него жизнь, вот сейчас бы прямо умереть, то сделала бы это, не задумываясь.
И когда мы так сидели и горевали, в класс зашла отставшая от нас на год Нелька. Выглядела она похудевшей, осунувшейся, потому что, помогая мне простудиться, простудилась сама и все это время тяжело проболела.
– Нелька, – сказала я. – Ты на меня не обижайся. Я не виновата, что не я заболела.
– Ладно, – великодушно простила меня Нелька. – Зато хоть в постели повалялась. А Веня целый килограмм ирисок подарил.
Нелька стала всем раздавать конфеты. А потом, хитро подмигнув мне, протянула фантик и прошептала на ухо:
– Смотри, «Кис-кис» называется. А наоборот прочти…
– Сик-сик, – вслух прочла я. Нелька засмеялась, мне тоже стало смешно.
– Вы чего там? – подошла Зара Альбекова.
– А вот, прочти, – предложила Нелька.
Через несколько минут мы смеялись всем классом. Как будто нас завели или загипнотизировали. Мы зажимали рты, пытаясь избавиться от этого наваждения, но, глянув на фантики, ничего не могли с собой сделать. И в самый пик смеха распахнулась дверь. На пороге стояла старшая пионервожатая Лариса Ивановна, и на лице ее был ужас.
– Вы что, с ума сошли? Сталин умер, а вы…
Мы затихли, онемев, Лариса Ивановна грозно пообещала:
– Ничего, с этим мы еще разберемся. Еще будет время, – и хлопнула дверью.
– Это ты начала! – вскинулась Лиля на Нельку. – Ты!
– А что я начала? Фантик показала. Подумаешь! Кто вас просил смеяться?
Повернулась и вышла из класса. По одной, молча стали разбредаться и остальные девчонки.
Я вдруг вспомнила, что уже два дня не видела Иду Соломоновну и собачку, и подошла к бараку. Дверь ее комнаты была распахнута. Я зашла – пусто, ни собаки, ни «немки», и даже вещи: железная кровать, тумбочка, книги – вывезены.
Постучалась в соседнюю квартиру к Надежде Тимофеевне, – тоже никто не отвечает. Тронула дверь – открыто. В кресле сидела, закутанная в одеяло, парализованная мать учительницы.
– Вы не знаете, – робко спросила я, – где Ида Соломоновна и собака?
– Отчего же, – ответила старушка. – Знаю. Ее увез худрук.
– Куда увез?
– К себе домой. Как бы это вам объяснить – он взял ее замуж.
– Замуж? Иду Соломоновну?
– Ну, а почему нет? Молодая, красивая женщина.
– А собачка?
– Разумеется, вместе с собачкой.
Вот это дела! Ида с ее больными ногами, веселый, красивый однорукий худрук… Почему-то опять вспомнились Веня со Славой. Может быть, я этого Славу, которого хотела взять замуж, вообще не забуду…
Пришла домой, а там гость – дядя Саша, приехал в командировку. Я ему обрадовалась, забыла, что он враг народа, стала спрашивать про Любу и Нину. Потом вспомнила и помрачнела. Мне еще предстояло рассказать бабушке про то, как мы смеялись в классе, – ведь она все равно узнает, вызовут теперь в школу, соберут родительское собрание, наверняка исключат из пионеров, а потом, может, из школы вообще. Но вот дядя… Стоит ли это все рассказывать при нем?
– Бабушка, у нас такое в школе случилось…
– Господи, что еще может случиться, если случилось самое страшное – Сталин умер.
– Вот-вот… Сталин умер, а мы смеялись.
– Как смеялись? Почему же вы смеялись? Как вы могли?
– Из-за фантика.
Я осеклась. Попробуй расскажи почему. Как не могли остановиться, как зажимали рты, хватались за животы…
– Из-за какого фантика? – спросил дядя Саша.
Я протянула злополучный фантик.
– Мы прочли наоборот, видите? – нечаянно опять прыснула и закрыла лицо руками от отчаяния. И тут мне послышалось, что дядя плачет. Даже ему так горько и стыдно за меня. Подняла голову и обомлела. Мой взрослый, можно сказать, старый дядя смеялся. Да просто хохотал... По морщинистым щекам текли слезы – но это были слезы смеха.
– Значит, «сик-сик» получается?
Минуту-другую ошеломленно глядела на прыгающий по худой шее кадык, на стертые корешки зубов, на веселые, озорные глаза дяди и вдруг сама засмеялась и стала хлопать себя по коленям.
А бабушка, недоуменно покачивая головой, на всякий случай поплотнее прикрыла форточку.
Глава 3
Все воскресенье Алина маялась, не зная, чем заняться. В городе было тревожно. Заходили соседи, делились новостями, которые были, правда, на уровне слухов. Вроде бы группа афганских моджахедов прорвалась через границу и пытается пробиться к гармовским боевикам, а от этих-то головорезов вообще пощады не жди. После русских, или русскоязычных, как теперь называли всех некоренных жителей республики, примутся за таджикскую интеллигенцию. Впрочем, интеллигенцию, как и все властные структуры, в Таджикистане представляли, в основном, ленинабадцы, а их, в свою очередь, не жалуют и кулябцы, всю жизнь считающие себя обделенными. Но они сейчас главная сила против ваххабитов. Говорят, в Курган-Тюбе перевес уже на их стороне, а командует кулябцами некий Бобо Сангак, уголовник, чуть ли не 20 лет просидевший в тюрьме.
Что касается Сангака, это было так и не так. Родной дядя Алины Николай Иванович смолоду жил в Кулябе по соседству с Сангаком. Алина, в свою журналистскую бытность, любила летать в командировки в Куляб, чтоб не только привезти материал для газеты, но и повидаться с родными, поэтому знала о полевом командире из рассказов дяди.
Сангак был простым чайханщиком, когда получил первый срок. А случилось это так. Приехал в Куляб проверяющий из Душанбе, мелкая чиновничья сошка. Но, как это и принято было в те времена, стал изображать из себя большого начальника, подолгу сидел в чайхане, на топчане, устланном мягкими курпачами, а местные подхалимы как могли ублажали его, подавая горячий жирный плов и наливая в чайник коньяк. Когда столичный гость, наевшись, откинулся на подушки и сыто рыгнул, Сангак подумал, что теперь самое время принести ему горячего зеленого чая. Однако тот, отхлебнув из пиалы и обнаружив, что напиток заменили, выплеснул содержимое в лицо Сангаку.
Сангак был молод и самолюбив. Он взял за шиворот проверяющего, стащил с топчана и, пригнув сильной рукой его голову к земле, вылил на нее из чайника все содержимое.
Отбывая срок за злостное хулиганство и телесные повреждения, он убил своего сокамерника, «смотрящего» за зоной авторитета, который отличался особой жестокостью, особенно по отношению к более слабым и молодым заключенным, впервые оказавшимся за решеткой. Двадцать не двадцать, но лет пятнадцать Сангак действительно отсидел, причем за эти годы сам стал «смотрящим», и, как говорят, хоть и суровым, но справедливым, и беспредела не допускал.
По освобождении из тюрьмы так и остался авторитетом, и не только в криминальных кругах. Потеряв веру в советские органы правосудия, люди шли к нему с жалобами как к главному прокурору и судье, и приговор, вынесенный им, обжалованию не подлежал и исполнялся беспрекословно.
Дядя Алины, много лет проработавший начальником кулябской типографии, выйдя на пенсию, частенько ходил с Сангаком на рыбалку. Рыбачили они по два-три дня, случалось, ловили огромных, до восьми-двенадцати килограммов, сомов, и за это время успевали наговориться всласть. Николай Иванович поражался острому уму и мудрой рассудительности простого, необразованного человека. Алина несколько раз видела Сангака. Его смуглое лицо с черными пронзительными глазами, обрамленное густой белой бородой, казалось лицом древнего дервиша, много повидавшего и познавшего на своем веку.
Все это она объясняла соседям, но они сомневались, качали головами: победят кулябцы, начнутся разборки…
– А если не победят? – спрашивала Алина, и они соглашались: будет еще хуже.
Сама Алина надеялась на Сангака, больше было не на кого: правительство давно расписалось в своей беспомощности, заявив по телевидению о том, что не сможет защитить жителей столицы, и призвав создавать отряды самообороны, особенно в микрорайонах, расположенных при въезде в город.
Костя, между тем, не участвовал в этих, как он считал, пустопорожних разговорах, а, подвинув к креслу шаткий столик, работал над переводом стихов французского поэта Жака Превера. Французский язык был, собственно, его специальностью. И хоть по окончании иняза Ташкентского университета сразу ушел в газету, языком занимался постоянно. Едва ли не четверть библиотеки составляли книги на французском, в основном – поэтические сборники. Время от времени его переводы публиковались в литературном журнале республики, пару раз удалось напечатать их в «Иностранке». Надо сказать, что и французы оказались взаимно вежливы. Приехавший из Парижа в Душанбе на какое-то культурное мероприятие, знавший русский язык литератор Шарль Риоль был, по его выражению, очарован и произношением Кости, и знанием французской поэзии, и переводами, особенно Франсуа Вийона, и, наконец, его стихами. Вернувшись во Францию, издал небольшой сборник стихов Константина Пашкова.
И вот теперь Костя занимался своим любимым делом. В отличие от Алины, он в любой ситуации умел уйти в мир высокой поэзии, заслонившись им, как щитом, от реалий сегодняшнего дня со всеми его страхами и тревогами. Алина же решила заняться делом весьма прозаическим, сходить на базар и купить хотя бы косточку для супа. Едва дошла до подземного перехода, увидела женщину, в обеих руках тащившую две, видимо тяжеленные, сумки, и не сразу признала в ней даму из соседнего, так называемого цековского дома. Знакомы они были лишь визуально, но при встрече раскланивались. Холеная, всегда дорого и со вкусом одетая блондинка казалась высокомерной, а уж встретить ее с сумками было просто невероятно. Алина решила даже свернуть за угол дома, чтобы не вводить в смущение знатную даму, но та неожиданно окликнула ее.
– Соседка, погодите! – И остановилась, поставив сумки на землю.
Алина подошла, поздоровалась, отметив про себя, что выглядит дама скверно, ненакрашенное лицо постарело лет на десять, а одета в домашний халат. Поскольку та не торопилась заводить разговор, Алина вежливо осведомилась:
– С базара идете?
– Какой с базара… От Салима, сок виноградный тащу.
Действительно, из каждой сумки, которые дама поставила на землю, выглядывало по две банки трехлитрового сока.
– Витаминами запасаетесь?
– Да на кой черт мне эти витамины сейчас… Самогон гоню.
Алина была ошарашена таким признанием. Самогоноварение – дело запрещенное. А тут…
– Хотите, вас научу? При такой-то жизни… Я вот напьюсь, – и пошли все на хрен… Пусть стреляют, воюют.
Растерянная деревенская баба стояла перед Алиной, а не высокомерная номенклатурная жена. А жила ведь еще недавно при коммунизме – не иллюзорном, не в светлом будущем, к которому такие, как ее муж, уже семьдесят лет вели народ, а в самом что ни на есть реальном. Спецмагазины, спецпайки… Даже спецпрачечная, откуда приезжала машина, забирала грязное белье, а потом привозила чистое. Тяжело падать с Олимпа… Хотя что теперь судить. Этих партия с ладошки прикармливала. Косте, талантливому поэту, всю жизнь кислород перекрывала, и он почти не издавался. А сейчас все в одном положении.
– Так у меня нет ничего… Там же аппарат нужен, и вообще…
– Мантушница есть?
– Конечно, есть.
Вообще-то, Алина свою мантушницу отправила в контейнере, но у Лены есть.
– Ну так вот – это самый лучший самогонный аппарат. И не придерешься, если что… А дрожжи мне мама из хмеля сама варит, я поделюсь хоть сейчас. Может, зайдете? Посидим, выпьем. У меня во всем доме перекинуться словом не с кем.
– Спасибо, как-нибудь потом.
– Ну, смотрите. Я от души предложила. Давайте хоть познакомимся, а то даже имени вашего не знаю. Меня Валентиной зовут.
Алина тоже представилась.
«Вернусь домой, расскажу Косте, вот удивится, и мы посмеемся вместе, – думала она, возвращаясь с базара. – Надо же, самогон варит…»
Так и вошла, посмеиваясь, и уж начала было рассказывать, да не так просто, а с вопроса, чтоб потомить и заинтересовать: «А знаешь что мне сейчас предложили?» Но, глянув на Костю, осеклась на полуслове. Он полулежал на кресле, лицо было бледным, глаза прикрыты.
– Опять сердце, – испугалась Алина, подошла, провела рукой по лицу мужа – оно было в испарине.
– Что, Костя, прихватило? Подожди, дам валидол. Ты береги себя, милый. Нам еще немного осталось потерпеть, совсем немного. Знаешь, у тебя кончик носа и верхняя губа белые. Это от сердца. Шавкат мне так и сказал: это сердечный треугольник называется. Это плохо, ты, говорит, Алина, за ним последи. А как за тобой следить, когда ты даже лекарства отказываешься принимать? А больниц сейчас нет. И «скорых помощей» тоже… Завтра я попрошу Шавката, после того как квартиру оформим, пусть зайдет, послушает тебя. И ничего, что хирург, главное, он умница, все умеет и все знает, – так приговаривала испуганная Алина, раскладывая второе кресло, чтобы уложить Костю, но он остановил ее, взял за руку.
– Аля, тебе не надо завтра никуда идти. Шавката убили.
– Боже мой! Костя, нет!.. Откуда ты знаешь?
– По новостям уже трижды передавали. И по нашим, и по московским. Ты сядь рядышком, посиди, скоро опять начнут передавать.
Но она не могла ждать.
– Костя, где его?.. Как?
– Дома, вместе с женой застрелили в постели.
– А дети, дети?
– Оказывается, он отправил их неделю назад к родственникам в Ленинабад. Может, чувствовал что…
– Не хочу слушать «новости» и видеть это. Не хочу…
Взяла курпачу, ушла в другую комнату, расстелила ее на полу и легла.
Неужели это из-за денег, которые он собирался завтра отдать им за квартиру? Это первое, что пришло в голову. Но тут же засомневалась. Конечно, могли и из-за денег. Но это одна из причин, на поверхности… Следствие, если таковое будет, за нее и ухватится. Могли быть и другие, более глубокие.
Шавкат был человеком неординарным. Он родился в семье имама Ленинабадской области, кроме средней школы, окончил также медресе, но по стопам отца не пошел, решив стать врачом. Однако в годы воинствующего атеизма происхождение камнем преткновения встало на его пути. Золотой медалист, он только с третьей попытки поступил в мединститут. Его всю жизнь куда-то «не пущали»: сначала в комсомол, потом в партию, а без партбилета была немыслима карьера ученого. Но защита кандидатской диссертации в Москве, его работы в области эндоскопической хирургии стали известны не только в Союзе, но и за рубежом. Так что партийные боссы отступились, «забыли» о происхождении. Но, может быть, теперь вспомнили исламисты и посчитали его вероотступником?
Не были типичными и его семейные отношения. Он женился на красивой девушке – татарке Мадине, что само по себе не осуждалось, ведь татары тоже мусульмане. Но Мадина по профессии археолог, подолгу работала в экспедициях на раскопках древних городищ, и Алина слышала не раз от вполне современных и образованных таджиков: «Мы ничего не хотим сказать о Мадине плохого. Но отпускать жену так надолго, с мужчинами… Знаете, это не в наших традициях…»
И Шавкат, и Мадина были людьми не только много читающими, но и пишущими. Когда Алина еще работала в газете, Шавкат приносил ей научно-популярные статьи, написанные хорошим русским языком, доходчиво, умно, зачастую – с юмором, а Мадина, вернувшись из экспедиции, так же интересно и ярко рассказывала читателям об археологических находках. Оттого оба любили бывать в гостях у Кости с Алиной, с удовольствием принимали участие во всех посиделках, которые довольно часто устраивались здесь по какому-либо поводу, а то и вовсе без него, возникая стихийно.
Остроумный, веселый Шавкат был прекрасным рассказчиком. Не красавец, но лицо подвижное, умное, с белозубой улыбкой, а руки… Когда он говорил, беспрестанно жестикулировал ими, и Алина глаз не могла от них оторвать.
Правда, последняя его история не была веселой, но и её Шавкат рассказал с присущим ему юмором:
– Когда в городе шли бои, мы несколько суток не выходили из больницы. Во-первых, домой не доберешься, а доберешься, не знаешь, сможешь ли завтра вернуться. А больных как оставишь, когда кругом стреляют? Уже поздно было, я прилег в кабинете, вдруг слышу, шум какой-то. Выхожу – четыре боевика с автоматами, заросшие все, лиц не разглядеть. Пойдем, говорят, с нами, мы своего командира привезли раненого, лечить будешь. Ведут в отделение травматологии. Я спрашиваю: «Разве там нет хирурга?» – «Есть, – отвечают, – но русский, ты будешь лечить». Иду, думаю – может, у того кости раздроблены или ранение в голову, я ведь хирург полостной, но разве им что-нибудь объяснишь? Тем более когда автомат в спину упирается. Раненый – в операционной. Боевики как есть, в сапожищах, тоже за мной следом вошли. Я глянул на того, кого «лечить» надо, и сразу понял, что дело плохо, пощупал пульс – нитевидный. Так, говорю, ребята, все в коридор, ждите там. Но прежде чем выйти, один из них сказал: «Ладно, мы будем за дверью. Но если он умрет, из вас тоже живым никто не останется».
Осмотрел я этого полевого командира, – ранения, не совместимые с жизнью, ему от силы несколько минут осталось. А боевики дверь приоткрытой оставили и наблюдают за мной. Я по их выговору сразу понял – памирцы, а среди медиков, что согнали в операционную, один из врачей – памирец. Я ему шепчу тихонечко: «Иди уговаривай их!» Сделаем, мол, все возможное, но шансов мало. И вот верите, я целых два часа, пока тот с ними беседовал, манипулировал с мертвым телом. «Ассистирующие» мне хирург и сестра включились в эту жуткую игру… Я командую, они подают инструменты… Сестра мне лоб промокает салфеткой. Правда, испарина в самом деле выступила. Боялся, конечно, а что же… – рассказывая, Шавкат помогал себе, как всегда, жестами, и его легкие руки летали по воздуху, показывая, как резали, как зашивали. – Через два часа вышел в коридор, сказал слова соболезнования… Они молча забрали тело с собой и ушли, нас не тронули…
«Тогда ушли, не тронули, но, может, теперь вернулись, – подумала Алина. – Сволочи, сволочи! В кого стреляют – цвет и гордость нации».
Постукивая тростью, в комнату вошел Костя.
– А что, Аля, не устроиться ли нам вообще на полу? На креслах спать не очень удобно.
Алина притащила еще одну курпачу, и они легли рядом.
– Как страшно, Костя, что их обоих, Шавката и Мадину. Дети совсем сиротами остались. Дочка хоть замужняя, своя семья, а мальчишки еще в школе учатся. Но знаешь, что я хотела сказать… Если бы нас… Если бы тебя… Короче, Костя, я ни за что бы не хотела остаться без тебя. Пусть бы уж лучше вместе. Я тебя так люблю, что мне не пережить…
– Глупенькая, о чем ты? Я тебя тоже очень люблю. Но если со мной что-то случится, ты уж, пожалуйста, живи долго-долго…
Они обнялись, и Алина тихо поплакала на его плече.
– Костя, я вдруг вспомнила твои стихи «Юго-Восток». Ты как, почему их написал? Нет, я понимаю, что глупо об этом спрашивать, и все-таки… Что навеяло?
– Вообще-то, строки Макса Волошина: «Сотни лет мы шли навстречу вьюгам с юга вдаль на северо-восток». Ну, и время, конечно.
– Ты их помнишь? Прочти…
– Волошина?
– Нет, свои.
Алина и сама их помнила, но вслушивалась в каждое слово и слышала их по-новому. В который раз она уже убеждалась, что Костя в своих стихах опережает время, а она не всегда понимает это сразу.
А нынче уходим на юго-восток –
В иные наречья, в иные обычаи,
Быть может, что даже в иные обличья –
Несмешанных красок прозреть холодок.
Быть может, сквозь сердце пробьется росток,
Как пробивает саманную крышу:
И бьется в висок отлетевшею вишнею
Речки подледный исток.
Уходим, уходим. Куда уходить?
Под зной или ветер? Не спрядена нить,
И даже кольца не сковали…
Златая печаль и златая печать,
Холмы золотые, как стражи, стоят.
Куда нам идти за печалью?
Алина так и задремала на плече мужа, сквозь сон почувствовала, как он бережно высвободил руку, переложил ее голову на подушку и ушел, видимо, опять смотреть телевизор.
Проснулась уже в сумерках. Надо придумать что-нибудь перекусить или хотя бы чаю согреть. Спросила:
– Что там, Костя, в «Новостях»? Есть что-нибудь хорошее?
– Есть и хорошее. Курган-Тюбе освободили от исламистов.
– Костя, почему ты сказал и хорошее? Что, плохое есть тоже?
– Сангак погиб…
Так… На сегодня многовато. Точно, многовато. Ни слова не говоря, Алина вышла во двор и направилась к соседнему дому.
– Валентина, я не успела купить виноградный сок, – сказала она с порога, когда ей открыли дверь, – но завтра обязательно куплю. А вы мне дайте, пожалуйста, дрожжей и еще… если можно, бутылку самогона. А я потом отдам. Или деньгами, если хотите.
Вернувшись, поставила на стол бутылку:
– Все, Костя, сейчас напьемся, и пошли все…
И Костя изумленно посмотрел на нее, удивленный не столь неизвестно откуда взявшейся выпивке, сколь залихватской фразе жены.
Алина достала банку рыбных консервов – да не кильки в томате, а благородный лосось, – НЗ из посылки сына. Помянули и Шавката, и Сангака. Пусть не православные, но помянули. Костя читал свои стихи, посвященные любимой женщине, то есть ей, Алине. Самогон был крепкий, настоянный на травах, и полегчало на душе, полегчало… Только Костя опять включил этот проклятый телевизор, не мог жить без новостей. А там разговор за круглым столом как раз о межнациональных распрях и войнах. И выступали, выступали, перебивая друг друга, вчерашние коммунисты, сегодняшние демократы, все умеющие объяснить и, оказывается, даже спрогнозировать… Ведущая, черноглазая красавица с лебединой шеей, с явным удовлетворением подвела итоги беседы: итак, разрушен еще один советский миф – о дружбе народов.
– Это на вашем, декларативном и партийном, уровне миф, – подвыпившая Алина делала свои выводы, продолжая теледебаты. – Это ваша уродливая национальная политика противопоставляла людей друг другу. Это вы называли русский народ старшим, а коренной в республиках младшим братом. И это было издевательством над старшим братом, потому что русские в том же Таджикистане были людьми второго сорта, рабочими лошадками, это было оскорбительным для таджиков, называться младшими. Ага, вот именно: «и зверье, как братьев наших меньших…» Это Есенин, а кто еще? Но он ведь о другом писал, не так ли? А на нашем, человеческом, уровне была и дружба, и братство. Костя, скажи, в послевоенное время в Ташкенте было братство народов?
– Было, было, – посмеивался Костя.
– И в моем поселке было, Костя, еще какое было братство! Им такого и не снилось! Так что выпьем и простим дураков, ибо не ведают, что творят. Нет, Костя, давай по-другому: выпьем и не простим. Потому что если забрались так высоко, должны, обязаны ведать…
Свидетельница
Когда едешь из Ташкента в Душанбе, смотреть в окошко нет никакого смысла: пустыня с проплешинами соли. Разве кому в диковинку верблюда увидеть. Но Аля с Дилей и на верблюдов насмотрелись, всю жизнь в Средней Азии. Диля злится, что Аля уговорила ее ехать поездом. Но с билетами на самолет было глухо, они два дня проторчали в аэропорту, и Аля решила, что лучше уж жара в поезде, чем беспросветная сутолока в аэровокзале. И Диля дуется, залезла на верхнюю полку и изо всех сил делает вид, что спит. Хотя заснуть в таком пекле просто невозможно.
Их сосед по купе, мужчина средних лет, кавказец по виду, без конца вытирает со лба обильный пот полотенцем, шумно вздыхает. Когда подруги вошли в купе, первым, что увидела Аля, была огромная кепка блином, болтавшаяся на вешалке, а потом уже она разглядела ее владельца. И сразу ей показалось что-то знакомое в его облике. Теперь она мучилась: где, когда могла его видеть?
Солнце бьет прямо в окно, и сосед по купе, приподнявшись, задергивает штору. Теперь Аля видит его в профиль и узнает мгновенно. Она даже чуть не вскрикнула, но сдержалась, зато сердце стало стучать гулко-гулко, она прямо захлебывалась этой гулкостью.
«Я не узнала его сразу, потому что он поседел, а главное – располнел, – соображала Аля. – И постарел. Конечно, постарел… Но профиль у него прежний, орлиный профиль…»
Задернув штору, мужчина смотрит на Алю мягким бархатным взглядом, шумно вздыхает:
– Жарко…
– Жарко, – соглашается Аля.
Он встает, достает из-под полки чемодан, и купе заполняется мандариновым запахом. Протягивает оранжевый плод:
– Угощайтесь!
– Спасибо.
– А вашу подругу можно угостить?
– Подруга не хочет, – резко отвечает Диля, спускает с полки ноги, обтянутые джинсами, спрыгивает и выскакивает в коридор. Аля понимает это как приглашение к разговору и выходит тоже.
Диля молчит, отвернулась, смотрит в окно, и Аля представляет, какое сердитое у нее сейчас лицо. А ей всегда смешно, когда Диля сердится. Потому что в такие минуты ее густые брови сходились на переносице, глаза смотрели исподлобья, но вздернутый носик с приподнятой верхней губкой словно бы продолжали улыбаться.
Аля берет подругу за плечи, поворачивает к себе:
– Ну, может, хватит дуться? Ведь едем же. Хочешь, я дам тебе ситцевый халатик, будет не так жарко, как в джинсах?
– Мне не нравится этот мандариновый король, – заявляет Диля.
– Ты с ума сошла! – Аля быстро прикрывает дверь в купе, хотя под стук колес вряд ли можно расслышать, о чем они говорят.
– Нет, ты видела его кепку? – не унимается подруга. – Я знаю, кто на Кавказе носит такие кепки. И вообще, он к тебе пристает.
– Он – ко мне? – Аля аж задохнулась от такого несправедливого обвинения. – Никто ко мне не пристает… Скорее это я к нему пристаю, если тебе так уж нравится это слово.
Диля презрительно подергивает верхней, короткой губкой. И тогда Аля признается:
– Понимаешь, мне кажется, я давно знаю этого человека. С самого детства. Я тебе потом расскажу, ладно? А пока не дави на меня. А то ты сейчас станешь напоминать, что я замужняя женщина.
Кажется, подруга сменила гнев на милость. Глаза ее помягчели, она махнула рукой:
– Делай как знаешь. – И пошла в купе. Аля же побежала в туалет, чтобы посмотреться в зеркало. Лучше бы не смотрелась. Чертова жара! Волосы прилипли ко лбу мокрыми прядями, и она безуспешно попыталась взбить их хоть немного. Тушь поплыла. Осторожно промокнула глаза носовым платком и тоже пошла в купе. Диля уже опять забралась наверх. Вторая верхняя полка напротив по-прежнему пустует. Аля возмутилась:
– Надо же! За билетами давились, а место свободное!
– Непорядки, непорядки, – соглашается попутчик. В купе по-прежнему пахнет мандаринами. Аля подсаживается к столику и ничего не может сделать с собой – во все глаза разглядывает сидящего напротив мужчину. Ей становится обидно: она уж, конечно, изменилась меньше, а вот он не узнал ее. Хотя, с другой стороны, он в то время был уже взрослым парнем, а она совсем девчонкой. Младших всегда не помнят.
По-видимому, мужчина обратил внимание на явно повышенный интерес к его особе. Приосанился, провел рукой по седой кудрявой шевелюре.
«Сейчас предложит познакомиться. И тогда я…» – раздумывает Аля. Но он не предлагает знакомиться. Опять достает из чемодана мандарины.
Вслед за мандаринами появляется бутылка вина.
– Понимаю, жарко, – словно извиняясь, говорит он. – Но это сухое…
– С удовольствием, – соглашается Аля и ловит на себе несколько удивленный взгляд. Затем глаза его устремляются к верхней полке.
– Вы нам составите компанию?
– Уж так и быть, – снисходит Алина подруга, и попутчик отправляется к проводнику за стаканами.
Вино на вкус кисловато-терпкое, но градусы в нем, как видно, есть. Аля чувствует легкое опьянение, потому что теперь сквозь тяжеловатое лицо сидящего напротив мужчины явственно проступают тонкие черты необыкновенно красивого юноши. Але так хочется, чтобы он сам, сам узнал ее, что она идет на маленькую хитрость. Вытягивает ноги в босоножках и говорит:
– Как жаль, не захватила с собой тапочек. Так устала на этих каблуках.
Фраза должна прозвучать как пароль. Незаметно следит за выражением его лица. Ничего, кроме любезности и соответствующего ей:
– Ради бога, пользуйтесь моими. Тем более что я сейчас залягу спать.
Но Аля не сдается и делает еще одну попытку.
– Скажите – «аленький», – просит она.
– Аленький – что? – недоумевает он. Зато Аля довольна. Потому что он произнес это слово без мягкого знака: «аленкий». Потому что с мягким он никогда не умел.
– Аленький – что хотите, – смеется она. – Что вам угодно: можно цветочек, можно горшочек…
Попутчик сидит, закрыв глаза. Ну, чего он? Глупой показалась Алина шутка? Или так разморило, хочет спать и не решается лечь, пока она тут сидит и разглядывает его? Ну что ж, надо помочь.
– Вы укладывайтесь, – говорит Аля. – Я пойду постою в коридоре. Там хоть чуточку попрохладнее.
Когда Алю в детстве спрашивали, где она живет, девочка, не задумываясь, отвечала: на Лепрозорке. «Лепрозорка» – так называли их поселок, и все в городе знали его под таким названием. Слово это казалось Але очень красивым. Что-то было в нем от «лепное», «лазоревое». А разгадка оказалась куда прозаичнее. Когда-то здесь находился лепрозорий, больница для прокаженных. И хотя это было очень давно, может быть, еще до революции, таджики на этом месте не селились. И даже когда Душанбе стал стремительно разрастаться, здесь все еще был громадный пустырь, тянувшийся до самых хлопковых полей, а там уже шли небольшие кишлаки, которые в черту города не входили. Сам же город отделяла от пустыря железная дорога. И стояло на пустыре поначалу одно-единственное здание барачного типа, но кирпичной кладки, с высокими потолками, в котором и был когда-то лепрозорий. Потом его отдали под общежитие геологам, две комнаты получили родители Али, но самой ее тогда еще не было. Во время войны пустырь стал застраиваться эвакуированными. Благо, находился у самой железной дороги…
Первыми здесь поселились несколько осетинских семей, соорудив сначала небольшие времяночки, а потом, пообжившись, и настоящие глинобитные дома. Времянки же сдавались эвакуированным, а те, тоже пообжившись, сооружали свои пристроечки. Не трогали пока лишь участок, где якобы было заброшенное кладбище прокаженных. И действительно, был он то в бугорках, то в ямках, и водилось там множество фаланг. Но постепенно стали застраивать и его. Так вырос поселок, известный душанбинцам под названием Лепрозорка, и народ жил там удивительно пестрый. Шло время, завязывались добрососедские отношения, все всё знали друг о друге, иногда вспыхивали ссоры, и тогда случайный человек поражался разноязычию женской брани. Однако ссоры, как правило, были недолгими. Подрастали ребятишки, которых вывезли матери из родных городов, спасаясь от бомбежек. Работать, как правило, шли либо на железную дорогу, либо в расположенный рядом колхоз. Каждого нового, еще не зная имени, как-то прозывали, и это прозвище приживалось прочно, переходило зачастую на всех членов семьи.
Почти на самом краю поселка жила осетинская семья, которую не со зла, не для обиды, а исходя из факта, звали «туберкулезными».
У тети Зары умерли от туберкулеза муж, две дочки, болела она сама и старший сын Казбек. Лишь младшие мальчики-погодки чудом пока оставались здоровыми.
Вот им-то, туберкулезным, носила рано утром двенадцатилетняя Аля на продажу молоко. Конечно, можно было бы и не вставать так рано, понежиться в постели, тетя Зара сама бы прислала мальчишек за молоком. Но тогда оно было бы уже не парное. Аля слышала от взрослых, что парное всего полезнее от туберкулеза, а ей так хотелось, чтобы выздоровели тетя Зара и Казбек и чтобы не заболели мальчишки. Бабушка же вставала в шесть утра, разжигала печку и тут же шла доить корову. И как бы ни хотелось Але спать, она все равно рано вставала, ежилась и мерзла, кутаясь в старый шерстяной платок. Бабушка, отдавая ей жбан с молоком, каждый раз напоминала:
– Смотри там ни за что не хватайся, ничего не ешь, если угостят, – болезнь заразная.
Выскакивая на улицу, Аля сдергивала с плеч платок, оборачивала жбан с молоком и бежала вприпрыжку к дому тети Зары.
Тетя Зара уже сидела за маленькой ручной машинкой. Она весь поселок обшивала тапочками. Они так и назывались: осетинские тапочки. Были каждодневные, суконные, в них только язычок и задничек кожаные. Были праздничные, которые назывались лосевые. На них тетя Зара выводила нитками причудливые узоры. На полу лежали заготовки – простроченные бока с вшитым язычком, но еще без подошвы и задничка, похожие на нахохлившихся птиц. Тетя Зара отрывала от машинки темные глаза, губы ее трогала едва заметная, тихая улыбка, спрашивала:
– Прибежала?
Может быть, она думала, что однажды Але не захочется вставать так рано и нести им молоко.
Осторожно Аля раскутывала жбан, щупала холодными ладошками его бока, радовалась: не остыло… Начинала тормошить мальчишек, сама разливала молоко в кружки, беспокойно оглядывалась: где же Казбек?
– В ночной сегодня, – ничего не спрашивая, объясняла тетя Зара. Тогда Аля начинала беспокоиться еще больше. Опять закутывала молоко в платок, выскакивала на улицу, вглядывалась в сторону моста. Казбек работал в железнодорожном депо. Сначала-то он был помощником машиниста, только врачи не разрешили ему водить поезда. Наконец разглядывала высокую худую фигуру, вбегала в дом и опять щупала молоко. Когда Казбек входил, она уже стояла с кружкой в руке. Он смеялся:
– Аленька, погоди, видишь, какой я чумазый. Отмоюсь и попью. Он всегда называл ее Аленька, только получалось у него Аленка, с твердым «н».
Показывал ей свои черные, в мазуте, руки, пугал, что сейчас схватит за нос. Но Але не до шуток: молоко остынет, станет не парным, пропадут все ее старания, а главное – оно уже не поможет от туберкулеза.
– Я подержу кружку, подержу, ты только попей, – прыгает она возле Казбека. Встает на цыпочки, тянется к его лицу. Он уступает, припадает губами к краям кружки, делает крупные глотки. Аля замирает, разглядывая запрокинутый подбородок, бледную впалую щеку, неожиданно яркий румянец на скуле, впадинку у виска, кудрявые смоляные волосы над чистым высоким лбом.
Нечасто приходилось Але поить Казбека молоком. Нужно было подгадать, чтобы пришел он с ночной, чтоб не успел еще вымыться, но ради таких минут Аля готова была не высыпаться всю жизнь.
Потом Казбек выходил в коридорчик, ставил на табуретку таз, брал ковшом теплую воду и звал:
– Мать, полей!
Тут уж Аля только остро завидовала, попросить разрешения полить ему она не смела. Молоко – другое дело, она сама его принесла, у нее вроде и прав больше. Но не уходила, ждала, пока он там плескался и пофыркивал. Уговаривала себя: «Сегодня и так повезло. Я его поила!»
На улицу выбегала счастливая, в который раз повторяя чужие, из трофейного фильма слова: «Он мой князь и мой идеал». А потом уже сама додумывала: «Когда вырасту, обязательно выйду замуж за Казбека и всегда, целую жизнь буду поить его молоком из кружки и поливать водою из ковша. Целую жизнь!»
Пришла домой, нарисовала мелом палочку на дощатой стене веранды. Потом, поразмыслив, послюнявила палец и стерла ее. Такая у них с бабушкой была бухгалтерия. Отнесет Аля два литра молока – пишет мелом на стене палочку. Когда палочек собирается достаточно, тетя Зара шьет Але тапочки. Иногда Аля писала эту палочку, а иногда день-другой пропускала. Все-таки молоко у них свое, от своей коровы, а с тапочками всегда можно погодить. Больная тетя Зара и так шила их с утра до ночи.
Однако пора в школу, а Аля еще не причесывалась, подходит к старенькому комоду, на котором стояло зеркало из толстого стекла – семейная реликвия. Дед, мастер на все руки, был, оказывается, в молодости и зеркальных дел мастером. И это зеркало сделал сам в подарок своей невесте, сироте и бесприданнице Алиной бабушке. Оно, конечно, потускнело со временем, в глубине, за стеклом, появились трещины и разводы, но бабушка и мысли не допускала о том, чтобы купить новое. «Сейчас таких не делают», – говорила она, и в голосе ее звучали гордость и восхищение. Аля и сама любила старое зеркало. Ведь в него когда-то смотрелась молодая бабушка, а потом молодая мама. Да и свое отражение в этом зеркале ей очень нравилось. В других зеркалах только глянешь – сразу лезут в глаза яркие веснушки, волосы кажутся очень уж рыжими. А здесь никаких веснушек, волосы светло-русые, неяркие, с золотым отливом, все лицо сквозь матовую тусклость смотрелось взрослее, красивее.
Аля распустила волосы, они тут же закрутились в кольца. Но бабушка не считалась с ее кудрявостью и не разрешала отрезать косы. А такой-то Аля нравилась себе гораздо больше. Но тут постучала в окно Люська, одноклассница, и Аля быстро концом расчески сделала прямой пробор, заплела две тугие косички, завязала бантики из атласных голубых лент, и они потопали в школу: высокая, худенькая Аля и плотненькая, маленькая Люська.
Школа, больница, магазин – все находилось за перекидным железнодорожным мостом. Идти в город – значит идти «за мост». Летом для ребят это всегда проблема: раз за мост, надо умыться, одеться поприличнее, обуться – в поселке ходили босые. Ну, а во время учебного года за мост приходилось ходить два раза в день как минимум.
Ходили на занятия лепрозоровские все вместе, ждали друг друга на мосту. Сегодня первыми пришли Аля с Люськой. Следом Валерка Воронов. Но встал отдельно: он десятиклассник, они для него пацанки. Да и класс у него еще мужской. С сентября соединили школы мужскую и женскую, а десятые и девятые оставили несоединенными. И вообще десятиклассников в поселке мало. Ребята после седьмого класса идут в техникум, а еще чаще – работать. Аля, обняв проволочные перила, смотрела в сторону депо. Вот бы прийти однажды туда и посмотреть, как чинит Казбек поезда. Он ей обещал, может, и отведет. Тронулся товарняк, запыхтел, застучал колесами. Но этот перестук, как и пронзительные свистки, были привычны слуху Али, наверное, так же, как крик петуха по утрам деревенским девчатам.
Ребята тем временем подсобрались. Но всегда кто-то опаздывает, а из-за него и все остальные. И учителя вечно ругаются: хоть бы раз эти лепрозоровские пришли вовремя! Сегодня нет Яшки с Фимой. А без них уж никак нельзя уйти. Фима, младший, мальчишка спокойный, он ни к кому не придирается, и к нему тоже. А за Яшкой нужен глаз да глаз. Ужасно психованный. Его так и зовут: Яшка-псих. Но если свои зовут, лепрозоровские, он даже не психует, отзывается, да и все тут. А если кто чужой хоть слово скажет, тут такое начинается…
Алина бабушка при случае говорила мальчишкам: «Фимку с Яшкой не обижайте, они такое пережили, что вам и во сне не снилось».
Наверное, про это, про пер
ежитое, рассказала бабушке мама мальчишек тетя Бетя, уборщица железнодорожной больницы. Иначе откуда бы бабушка знала, что отец у них погиб в первый же год войны и что, когда они сами выбирались из занятых фашистами мест, что-то страшное случилось со старшей сестрой. Фимка в то время был маленький и ничего не помнит, зато у Яшки что-то сдвинулось в голове. Он даже несколько лет не учился, а теперь сидит в одном классе с Алей, хотя намного старше ее. И когда на него находило, он сразу начинал искать сестру, и глаза у него становились прямо бешеные. И, что бы ни случилось, всегда у него мозги поворачивались на одно и то же. Ну, например, подножку кто-нибудь в коридоре подставит или снежком запустит – да мало ли что, он все равно начинает про сестру, кричит: «Вы ее убили», да еще бросается в драку. Причем вцепится в кого – не оттащишь. Аля поначалу сама пугалась, когда на него такое находило, а потом научилась его успокаивать. Просто говорила: «И ничего ее не убили. Сейчас пойдем домой, а она там».
Ее даже с уроков отпускали, чтоб она Яшку домой отводила. И что интересное, дома он сразу же забывал про сестру, ложился спать и спал очень долго, иногда целые сутки мог проспать.
Но вот, наконец, и они. Теперь бегом, через две ступеньки. Три пролета за несколько секунд. Школа до войны была двухэтажной, но ее отдали под госпиталь, быстро выстроив рядом два длинных одноэтажных здания – мужскую школу и женскую.
Война уже десять лет как кончилась, а здание все не отдавали, все лежали там инвалиды. Не то чтобы в прямом смысле лежали, многие ездили в колясках, а некоторые безногие на деревянных платформочках, отталкиваясь от земли двумя деревяшками. Этих «ездящих» школьники, в том числе и лепрозоровские, хорошо знали. Аля с Люськой со многими здоровались, а иногда приносили им цветы или гостинцы.
В школе в этот день все было нормально. И Яшка не психовал, и контрольную Люська незаметно списала у Али. И дома, после школы, не произошло ничего необычного. Аля помогла бабушке, накосили они с Люськой травы в овраге для коровы. Уроки сделала, как всегда, наспех, и – на улицу.
Поздно вечером, спрятав под одеяло черные жесткие пятки, чтоб не увидела бабушка и не заставила отпаривать ноги в тазу, в горячей воде с мылом, от которого нестерпимо щипало цыпки, Аля, засыпая, думала о том, как бы утром пораньше проснуться и подгадать к тому времени, когда Казбек уже придет со смены, но не успеет умыться.
Так бежали дни своим чередом. Однако происходили в поселке и свои знаменательные события. Например, состоялось общепоселковое собрание, на котором присутствовал представитель райкомхоза, мужчина средних лет в чесучевом костюме, соломенной шляпе и с портфелем. Он выступил с речью и сказал:
– Все вы знаете, товарищи, что ваш поселок назывался, неофициально, конечно, Лепрозорка, и это было, надо сказать, наследие прошлого, потому что никаких прокаженных в нашем советском поселке нет. Теперь же поселок ваш будет называться именем героя-летчика Нестерова, который, чтобы вы товарищи знали, между прочим, первым сделал «мертвую петлю». А отсюда проистекает тот факт, что и вы сами, и ваш поселок должны быть достойны этого славного имени, потому решено от самого моста через весь поселок не позже чем к международному празднику Первого мая провести асфальтированную дорогу, а также будут ставиться столбы для электрического освещения улиц. Но в этой светлой жизни вы сами, дорогие товарищи, должны не ударить в грязь лицом, побелить снаружи свои дома и другие пристройки, а также расчистить близлежащую территорию и следить за содержанием арыков, куда, между прочим, некоторые хозяйки выгоняют домашний скот в виде уток.
Речь всем очень понравилась. Принарядившиеся женщины – Алина бабушка тоже пришла не в обычной ситцевой косынке, а достала из сундука цветастый праздничный платок – горячо обсуждали приятные новости, тогда же и порешили: как только заасфальтируют дорогу и проведут освещение, сделать прямо на этой дороге большой дастархан и отпраздновать всем поселком как и его новое название, так и благоустройство, – вроде как справить именины.
На собрание не пришли только Иванцовы, которые всегда всех сторонились. Они и жили особняком, на краю поселка, в большом каменном доме, с оградой, с коваными воротами. Впрочем, фамилии их тогда никто и не знал, а звали их все «врачи по нехорошим болезням». Эти врачи – пока Аля не подросла и не узнала, что они венерологи, – ее просто замучили. Она спрашивала бабушку:
– Туберкулез – хорошая болезнь?
– Что ты! – охала бабушка, не чувствуя подвоха. – Не приведи господи! От нее человек, как свечка, тает.
И тут Аля ее подлавливает:
– Значит, ее должны лечить «врачи по нехорошим болезням»?
Бабушка терялась.
– Это другие нехорошие болезни.
– Но ведь хороших болезней не бывает? – настаивала Аля.
Тогда уж бабушка сердилась, говорила, что Аля больно дотошная, и тут же отсылала ее за каким-нибудь делом.
«Врачи по нехорошим болезням» с поселковыми не общались. Были у них свои какие-то знакомые и друзья. Аля слышала, как поздним вечером подъезжали к ним легковые машины, но не через поселок, а задами, со стороны кишлаков. Дочка их, Танечка, единственная во всем поселке училась в институте, говорили, что она выбрала себе ту же специальность, и Алина бабушка сокрушалась: «Надо же, такая молоденькая, такая хорошенькая, а тоже пошла в нехорошие болезни».
Что касается Али, хорошенькой она Танечку не считала и вообще терпеть не могла. Да и другие поселковые ребята, даже те, что постарше, ровесники Тани, тоже с ней не дружили.
Трудно объяснить почему, но мода к ним за мост доходила с большим опозданием. Городские парни уже зачесывали волосы назад, а поселковые все ходили с косыми челками на лоб, там уже носили пиджаки, а здесь вельветовые курточки на кокетке. Да и девчата все были с косами, в длинных, мешковатых платьях одного покроя. И только Танечка, за что и была прозвана Ципа-Дрипа, ходила в капроновых чулочках, в туфельках на высоких каблучках, в коротких гофрированных юбочках, схваченных на тонкой талии широким поясом. Кроме того, она была заносчива, мало кому даже из пожилых говорила «здравствуйте», а когда была помладше, не ходила общей гурьбой купаться на речку Кафирниган или ночью на кладбище прокаженных, где, как уверял Валерка Воронов, якобы светился фосфор из костей. И правильно, что все ее в поселке не любили. Да вот в чем была беда: все, кроме Казбека…
Развлекаться в поселке молодым было негде. Но вот по их сторону моста стали разбивать парк железнодорожников. Открылся летний кинотеатр, работала танцплощадка, где сначала под радиолу танцевали «Риориту» и «Брызги шампанского», а потом появился духовой оркестр. Алю, конечно, в парк бабушка не пускала: мала еще. Но откуда было бабушке знать, что, едва выскочив вечером на улицу, она бежала в парк, стояла, босая, чуть поодаль танцплощадки, смотрела на танцующих, слушала музыку. Городские к ним не ходили, побаивались: поселок был, кроме парка, пока еще неосвещенным, да и ребята почему-то считались драчунами. Но и поселковые развлекаться «за мост» тоже не ходили, одна только Ципа-Дрипа каждый вечер, примерно часов в семь, отправлялась в город. А чуть раньше на углу Алиного дома, мимо которого Танечка должна была пройти непременно, появлялся Казбек в наглаженной рубашке, с влажными, уложенными кудрями. Если в это время Аля спрашивала его о чем-то, отвечал рассеянно, поглядывая на дом «врачей по нехорошим болезням». И только когда хлопала тяжелая калитка и в своей пышной юбочке, с русыми локончиками вдоль узкого лисьего личика выходила Ципа-Дрипа, Казбек оживлялся, начинал болтать с Алей. Аля же, наоборот, замолкала, понимая, что это он нарочно, чтобы та не поняла, кого он здесь поджидает. Но только Танечка проходила мимо, он тут же на полуслове замолкал и долго смотрел ей вслед.
В последнее время у Ципы-Дрипы появился кавалер, как выражалась Алина бабушка. Небольшого росточка, с маленькой прилизанной головкой. Аля, как встретила их вместе, так и не удержалась, покрутила пальцем возле виска так, чтобы видела Танечка. А означать это могло только одно: какой же надо быть идиоткой, чтобы не замечать такого красавца, как Казбек, а ходить с такой вошкой. Своим мнением она и с ребятами поделилась, и вот уже прозвище Вошка прочно приклеилось к кавалеру Ципы-Дрипы.
Неизвестно, каким образом поступила эта информация в Лепрозорку, но вскоре все уже знали, что Вошка – сын главного прокурора. Какого именно прокурора – района, города, республики, а вполне возможно, что просто его отец кем-то работал в прокуратуре – эти детали уже не уточнялись. Факт тот, что лепрозоровские ребята все же побаивались этого родства, а то бы точно отлупили Вошку.
Але хоть и казался Вошка очень противным, но она надеялась, что теперь уж Казбек не будет каждый вечер ждать эту Ципу-Дрипу. И зря надеялась. Он смотрел ей вслед еще тоскливее, еще дольше. Но самое ужасное было то, что когда Танечка проходила мимо них вместе с Вошкой, то начинала хихикать и что-то шептать ему на ухо. Вошка тоже хихикал и оглядывался на Казбека.
– Зачем ты здесь стоишь? – с горькой обидой на него сказала однажды Аля Казбеку.
– А ты зачем стоишь? – улыбнулся Казбек.
– Я с тобой…
– Ну вот, а я – с тобой, Аленка.
Аля тогда обиделась на Казбека: чего он с ней как с маленькой? Знала, чувствовала, что добром эти ожидания на углу не кончатся.
Однажды Вошка шел, как всегда, к своей Тане, чтобы потом отправиться с ней в город, но до дому «врачей по нехорошим болезням» не дошел, остановился возле Казбека, который, как всегда, уже ждал на углу Алиного дома. Аля, как увидела, что Вошка остановился, сразу выскочила и встала рядом с Казбеком.
– Покурим? – спросил Вошка у Казбека.
А тот ответил:
– Не курю.
– Что, на папиросы не зарабатываешь? – спросил опять Вошка и нехорошо засмеялся. – Тогда могу угостить.
И протянул ему пачку с папиросами, но Казбек даже рукой не пошевелил. Аля знала, что не курит он из-за болезни, но Вошке Казбек ничего не стал объяснять, просто не ответил и папиросу его не взял. А Вошка вдруг ни с того ни с сего стал ругать их поселок.
– Тут один сброд живет, в вашей Лепрозорке. Сброд и отребье всякое. И жулики.
И еще про то, что Танины родители, нормальные и интеллигентные люди, попали сюда случайно.
– А то бы, – сказал он, – я бы в жизни не узнал про вашу Лепрозорку, я бы даже плюнуть сюда не зашел.
А сам взял и плюнул и стал нахально смотреть на Казбека. Казбек все еще молчал, но Аля не выдержала:
– Иди плюйся в своем прокурорском доме или во дворе у Танькиных родителей, потому что тут только они одни жулики, – кричала она. – Я знаю, зачем к ним по ночам машины ездят!
Тогда Вошка глянул на Алю так, как будто она вообще никто и ничто. А потом наклонился и что-то прошептал Казбеку на ухо. А вот что именно – Аля, как назло, не расслышала. Только после этих слов Казбек вдруг со всего маху ударил Вошку по лицу.
Или уж так сильно ударил, потому что хоть и был он болен, но все-таки рабочий парень, широкий в плечах, или Вошка такой оказался квелый, но только Аля и понять ничего не успела, как тот оказался в пыли на земле. И Ципа-Дрипа уже бежала к ним от своих ворот и визжала во весь голос.
В поселке ребята дрались часто. Бывало, что с городскими, а чаще между собой. Но никто никогда ни на кого не жаловался. Даже участковый, добрейший дядя Сережа, казах по национальности, с трудным именем, оттого и переименовали в Сережу, даже он не разбирался в этих драках. Так, пожурит только, назовет петухами – и все дела. Сколько раз и его сыну Искандеру влетало – и ничего. Но на этот раз Аля знала: так не обойдется. Ципа-Дрипа завела своего Вошку домой, а оттуда он вышел уже перевязанный, потому что, когда упал, рассек подбородок о камень. И вели его под руку, словно тяжелобольного, Танькины родители.
Вечером бабушка никак не могла затолкать Алю спать.
Та ее замучила вопросами:
– Бабушка, у нас поселок хороший?
– А чего ж… Магазин вон открыли, дорогу заасфальтируют.
– Да я не про это. Люди у нас какие?
– Люди как люди. Академиков, конечно, нету, народ обычный. Но неплохой. Мы уж тут сколько лет, слава богу, живем, и ничего.
– Бабушка, Казбек подрался…
– Казбек парень несчастливый. Красота в нем, видишь, какая.
– А разве это плохо – быть красивым?
– Плохо, – убежденно говорит бабушка. – Это вроде как отметина на человеке. Сестру ты его старшую не помнишь. Вот уж была красавица, а ведь поди ж, померла – восемнадцати не было.
– Ты так говоришь, бабушка, что, по-твоему, все бы красивые умирали. А вон какие артисты есть красивые и счастливые.
– Помирают-то не все. Да и про их счастье мы много не знаем.
– Это ты так говоришь, бабушка, по своей отсталости и все неправильно!
– А если ты такая неотсталая, – сердится бабушка, – то ложись-ка да спи давай!
Попробуй тут усни! Чуть задремлет Аля, а ей все свой поселок снится. К тому времени он вытянулся в длинную прямую улицу, называвшуюся первой линией, а небольшие поперечные улочки – проездами, тоже безымянными, по номерам: первый, второй, третий… На своей улице Аля знала всех. И хоть бабушка говорила – «люди как люди», это было не совсем так. Потому что были среди них и такие, с которыми связывалась какая-то тайна, загадка. Вот, например, «Та, которая в окне»…
Вроде спит Аля, а вроде и не спит. Только видит она, как рано утром распахиваются голубые ставенки, раздвигаются ситцевые занавески в горошек, на своем обычном месте стоит горшок с геранью и появляется «Та, которая в окне», и вот уже сидит, подперев кулачками подбородок. Золотые волосы уложены короной, платье с глубоким вырезом, руки полные и белые.
У этой женщины нет ног. Но почему – никто в поселке этого не знает, а слухи ходили самые разные. Одни говорили, что она без них родилась, другие – что в детстве попала под поезд. Мало того, была она иностранка и будто приехала сюда из Варшавы. Но этому многие не верили: зачем это ехать из Варшавы в Лепрозорку? И потом, если бы она только что приехала из Варшавы, то откуда бы у нее взялся черноглазый сынок с таджикским именем Акбар, с фамилией Музафаров? Тем более все видели и отца Акбара, который первым приехал на легковой машине в поселок, сторговал у дяди Хамзата полдома, а затем уже привез «Ту, которая в окне», и Акбара.
Легковая машина была уже сама по себе событием в поселке, потому и считали, что отец Акбара – большой начальник. Сам Акбар одевался совсем не так, как поселковые мальчишки. Ходил в шортах, в гольфиках и настоящих сандалиях, рубашечки на нем всегда были чистые, с отложными воротничками. Зная нравы поселка, можно было бы предположить, что Акбару, такому чистюле, живется в нем неуютно, но это было не так. Ему прощались и шорты, и гольфики, потому что это был мальчик-труженик, «хозяюшка», как ласково называла его Алина бабушка. Ему было всего пять лет, когда он появился в поселке. И, поскольку мать его вовсе не выходила из дому, он сам носил тяжелые сумки с базара, стоял в очереди за керосином, ходил за мост в магазины и, кроме того, был такой добрый и вежливый, что обидеть его было просто невозможно. Никто не понимал, когда успевает «Та, которая в окне», шить на себя и на сына, стирать, делать красивые прически, потому что от зари до зари вот так, подперев кулачками щечки, сидела у окна. Узнать у нее что-нибудь тоже было не так-то просто. Она неплохо разговаривала по-русски, но, если ей не нравился вопрос, начинала быстро-быстро щебетать что-то по-польски, и собеседнице ничего не оставалось, как махнуть рукой.
Домой «Та, которая в окне», никого к себе не приглашала, а самим идти вроде бы и незачем. Поздороваться, спросить о чем-нибудь – так пожалуйста, вот она – в окне... Но сегодня ночью, во сне, Аля решила во что бы то ни стало зайти к «Той, которая в окне». Ей нужно, обязательно нужно посмотреть на ее ноги. Ночью окно не занято, Аля сама раскрывает ставеньки, на пол грохается цветок с геранью. «Та, которая в окне», кричит от неожиданного грохота, вскакивает с постели, и Аля видит ее ноги – они у нее целые, но очень коротенькие, волосатые и с копытцами. Тогда Аля тоже кричит что есть сил и просыпается окончательно.
Слышит, как бабушка ругает теленка, перевернувшего кастрюлю. Теленок еще маленький и пока живет в доме, потому что в сарае холодно.
– И что ты не угомонишься, – увещевает его бабушка. – Девчонку вон испугал.
Выходит, и проспала Аля всего ничего, бабушка еще даже не ложилась.
– Бабушка, – спрашивает Аля. – А у «Той, которая в окне», такие ноги тоже потому, что она красивая?
– Не знаю я, Аля. Сказала про красоту так, к слову, а ты все в строку берешь. Спи давай.
– Бабушка, а на что они живут, «Та, которая в окне», и Акбар?
– Отец мальчишки помогает.
– А почему он не живет с ними всегда?
– Ну тебе-то что за забота? Мало на то какие причины. Забиваешь голову чем не положено. Спи!
Отец Акбара приезжал в поселок часто и всегда на легковой машине. И однажды случилось такое происшествие. Нугмон, узбекский мальчишка, которого все звали просто Немошка, шустрый и озорной, выскочил неожиданно из-за поворота и попал под колеса автомашины. Отец Акбара, весь бледный, вышел из машины, закрыв лицо руками. А Немошка в это время уже вскочил на ноги. Из ворот дома выбежал отец Немошки дядя Саид и, узнав, в чем дело, дал сыну затрещину, сказав при этом хлесткую фразу по-узбекски, которая в переводе означала примерно «не будут тебя черти носить, где не положено». Но потом взял Немошку на руки и заплакал.
Дядя Саид был продавцом в единственном недавно открытом в поселке магазине, одновременно и продуктовом, и промтоварном, так что теперь не приходилось ходить за товарами и продуктами первой необходимости за мост. И вообще дядя Саид удивительный, замечательно честный человек. Однажды, что-то перепутав в накладных, ведь был он не очень грамотным, дядя Саид целый день торговал ситцем по 8 рублей 80 копеек, а потом обнаружил, что материя стоит 6 рублей 90 копеек. Тетя Амина, его жена, рассказывала, что он всю ночь не спал, а рано утром, припоминая, кто из поселковых брал ситец, ходил по домам, возвращая кому три, кому шесть рублей. А потом еще долго переживал от того, что были среди покупателей случайные, незнакомые ему люди, которым он не может вернуть деньги и которые будут считать его мошенником.
Неизвестно, почему так повезло Немошке, но отделался он только испугом да синей полосой поперек живота, которая долго еще не сходила и которую он с удовольствием показывал всем, кому хотелось на нее посмотреть.
Отец Акбара привел к дяде Саиду барана, чтобы он сделал худои и чтобы никуда не жаловался на него. Барана дядя Саид взял, потому что худои был народный обычай: если случалась маленькая неприятность там, где она могла бы обернуться большой бедой, принято резать барана и делать угощение. А жаловаться он и так бы никуда не пошел.
Так, от одного к другому, скачут мысли, все путается в голове у Али. Она опять вспоминает «Ту, которая в окне», и улыбается красивой, таинственной женщине, и радуется, что она, эта красота, живет в их поселке. Потому что даже представить страшно, что однажды не откроется окошко и не покажется в нем золотоволосая головка.
Немножко повзрослев, Аля, листая какой-то иллюстрированный журнал в доме своей любимой учительницы, вдруг увидит на цветной вкладке «Ту, которая в окне». Прочтет под ней: «Ренуар. Портрет актрисы Жанны Самари» и возмутится:
– Здесь ошибка. Я ее знала, – скажет Аля. – Она совсем не актриса, у нее нет ног.
И учительнице долго придется объяснять, что Ренуар, французский импрессионист, никак не мог написать «Ту, которая в окне», и что люди могут быть настолько похожими.
После того как испугал Алю теленок, она никак не может уснуть. Лежит и вспоминает своих соседей, мысленно идет от дома к дому. Рядом с «Той, которая в окне», живет однорукий печник дядя Вася, жену его зовут Печничихой, хотя она и сама работает на железной дороге диспетчером. У них снимает комнату старая проводница тетя Настя, или, как зовут ее за глаза, Курилка, потому что она курит, а больше из женщин в поселке не курит никто. А еще дальше – семья машиниста Воронова, у них трое самых отчаянных парней. Зато Валерка, старший, лучше всех играет на гитаре и поет. Но все это люди обыкновенные, без тайны. Аля пропускает несколько домов и пристроек и останавливается у приземистой глинобитной кибитки. Вот тут-то и живет самая жгучая тайна, еще таинственней, чем «Та, которая в окне».
Здесь живет Китаец. Его так и зовут, хотя это не прозвище, он в самом деле китаец, но как раз в этом-то никакой тайны нет. Например, корейских семей в поселке несколько, ну и что? Дело в том, что китаец этот уже старый, с желтым морщинистым лицом, он едва передвигается на двух костылях, говорят, у него вообще нет ребер и каждый день жена зашнуровывает на нем какой-то особый корсет. Но и это само по себе еще ничего бы не значило, если бы жена эта не была молодой и очень красивой женщиной, ничуть не меньшей красавицей, чем «Та, которая в окне», но еще и на длинных, стройных ногах. И тут уж тайна, тут уж непонимание – отчего, почему живет со старым, больным Китайцем молодая и красивая женщина? Но даже эта тайна еще не вся. Китаец этот настоящий фокусник. Свои фокусы он показывает на маленьком базарчике, который стихийно возник несколько лет назад в поселке, прямо под окнами барака, где жила Аля. На базаре он показывал фокусы за деньги, но, если приходили ребята к ним в дом, показывал их просто так, смеялся и угощал леденцами. Аля сама видела: держит в руках нормальную колоду карт, даже дает проверить, что все там нормально, а потом раз – и в колоде уже одни только дамы или короли или все карты вдруг станут одной масти. И леденцами он угощает не просто так. Сожмет на глазах у ребят пустую ладонь в кулак, а когда разожмет – в ней разноцветные леденцы. Аля пробовала – настоящие.
Про эту пару говорили еще больше, чем про «Ту, которая в окне». Печничиха уверяла, что он несметно богат и жена его, красавица Валентина, живет с ним из корысти. Проводница Курилка считала, что он колдун и приворожил Валю, она бы, мол, и рада от него отстать, да не в силах. И только, может быть, Аля догадывалась, что Валя просто любит Китайца. И тайна для нее была не в том, почему она с ним живет, а в том, отчего любит.
Еще Аля знала, что Китаец – человек добрый, хоть и хитрый. Когда четыре года назад в самолетной катастрофе погибла ее мама, бабушка ходила к нему гадать. Дело в том, что самолет, вылетевший из Ленинабада, не долетел до места назначения, то есть до Душанбе, но и обнаружить его долго не удавалось. В течение трех месяцев несколько раз снаряжались поисковые экспедиции, и все безрезультатно. Лишь когда сошел с гор снег, останки самолета случайно обнаружил чабан. Но все эти месяцы не покидала деда и бабушку надежда на то, что мама жива. Аля все время жила с бабушкой и дедушкой. Отец с матерью, геологи, были всегда в разъездах. Но и потом, когда мама стала уже работать в газете, у нее тоже были то дежурства, то командировки, и Аля сразу не поняла, не ощутила утраты. Отец же несколько лет уже жил и работал в другом городе, может быть, они даже расстались с мамой, оттого и жили отдельно. Так вот, когда иссохшая от горя бабушка пришла с Алей к Китайцу, он долго раскидывал карты, прикрывал свои и без того узкие глаза и молчал. Наконец попросил жену принести росток какого-то растения – а их в доме Китайца было очень много, и сказал бабушке:
– Посади. Если примется – есть надежда. Будем смотреть.
И вот тогда-то Аля поняла, что Китаец сам нисколько не сомневался в гибели мамы, и не потому, что умел гадать, а потому, что кроме родных и близких, не смевших расстаться с надеждой, и так все было ясно. Но он жалел бабушку и таким гаданием поддерживал в ней надежду. А когда бабушка, обрадованная, принесла ему горшок с зазеленевшим ростком, он опять прикрыл свои глаза-щелочки и сказал:
– Хорошо… Теперь зацвести должен. Будем смотреть.
Хоронили маму в цинковом закрытом гробу, оттого, что Аля не видела ее лица, она и тогда еще не ощутила утраты. Смотрела на все отстраненно, словно происходило это в кино, а если плакала, то только потому, что плакали все. На поминках и позже, всегда, когда заходил разговор о маме, все говорили: «Такая была добрая, такая улыбчивая, веселая…»
Аля недоумевала: добрая – да. Но веселая? На всю жизнь она запомнилась ей печальной. Печальны были ее темные, глубокие глаза, печальны даже смуглые, тонкие в запястьях руки, печален весь облик. Аля силилась вспомнить маму смеющейся или хотя бы улыбающейся и не могла. Может быть, считая Алю слишком маленькой, мама не таила перед ней свою печаль? И печаль эту Аля, не умея объяснить, каким-то образом связывала с отцом.
За домом Китайца опять шли дома с людьми обыкновенными. Стояли два барака – общежитие железнодорожников, в котором жили машинисты, помощники машинистов, дорожные рабочие, служащие станции со своими семьями. За что же их всех так обозвал этот Вошка? В поселке не работала только «Та, которая в окне», но ведь она без ног. Ну, еще Китаец на базаре показывал фокусы, и дядя Сережа его несколько раз ругал за это. Но ведь Китаец – инвалид. Если и неправда, что совсем без ребер, то уж точно с больным позвоночником. Жил еще за железнодорожными бараками старый рыбак-пьянчужка, который с удочкой ходил на Кафирниган, а потом продавал рыбку на базаре. Так ведь везде есть свои пьянчужки. А если разобраться, то и он тоже хороший человек. По крайней мере, растит один внучку Люську, Алину одноклассницу, потому что у нее не только отец, как у многих, но и мать, родная дочь рыбака, погибла на фронте. А еще он, хоть и пьянчужка, выращивает такие розы, каких здесь никто раньше и не видел. И чуть выпьет, тут же срезает их и всем раздаривает.
И вот все эти люди – сброд? Правильно Казбек ему врезал, вот только в милицию его за это таскать не стали бы…
И опять полусон, полузабытье. Колода карт в руках у Китайца, а на них не короли и дамы, а живые рыбки плещутся…
Из-за этой бестолковой ночи Аля проснулась, когда бабушка давно уже подоила корову, молоко остыло, а Казбек, конечно же, не только пришел, но и вымылся. Однако время до школы еще оставалось, и Аля все-таки решила отнести жбан молока. И еще только дошла до «Той, которая в окне», как увидела, что из дома тети Зары вышли два милиционера, один дядя Сережа, другой – незнакомый, а посередине, нагнув голову и заложив руки за спину, шел Казбек. Тетя Зара стояла у калитки, обняв косяк, а потом стала медленно сползать на землю. У дяди Сережи было ужасно виноватое лицо, и он шел, как и Казбек, пригнувшись, а «Та, которая в окне», что-то кричала, похоже, ругалась по-польски на милиционеров.
– Это же его арестовали, – догадалась Аля. – Не просто вызвали в милицию, а арестовали…
Хоть и знала Аля, что «врачи по нехорошим болезням» сделают какую-нибудь пакость Казбеку, но такого не ожидала. Она не выронила – бросила жбан на дорогу и побежала навстречу. Казбек, заметив ее, поднял голову, улыбнулся.
– Аленка, – сказал он. – Молоко пролила. Ну, ничего…
И засмеялся.
Аля не поняла, к чему относилось это «ничего» – к молоку или тому, что его арестовали.
Вечером весь поселок был взбудоражен.
– Ничего ему не сделают! – кричал пьяный рыбак. – Попугают немного и отпустят.
– Могут оштрафовать, – сомневался печник дядя Вася.
Проводница Курилка, потягивая «козью ножку», предложила:
– Надо матери Казбека да нам всем, соседям, пойти к «врачам по нехорошим болезням» попросить, чтоб уговорили Вошку простить. Полюбовно, мол, по-соседски надо…
Но предложение Курилки не поддержали, идти к ним никто не хотел.
Разговор этот происходил вечером, на том месте, где по утрам собирается базарчик. Вышли из барака железнодорожники, те, что помоложе, устроились прямо на прилавках, пожилые вынесли с собой самодельные скамеечки. Получилось настоящее собрание, однако вести его было некому, оттого и проходило оно с криком, спором, беспорядочно и бестолково. Железнодорожники кричали: «Да чтоб такого парня посадили?! Это наш стахановец, образец, так сказать, для подражания. Да мы за него горой!»
Кто-то сбегал за участковым. Дядя Сережа пришел, как всегда, облепленный маленькими детьми, мал-мала меньше. У него и форма-то вечно была заляпана и заслюнявлена малышами, их у дяди Сережи восемь в семье, и все на нем виснут. Потолковал он с собравшимися, но не обнадежил. Сказал:
– Как дело повернется. Статья в кодексе есть.
– Какая такая статья! – завозмущались женщины. – Да когда же это было, чтоб парни из-за девки не передрались!
«Та, которая в окне», волновалась, звала к себе поближе, кричала:
– Ходатайствовать надо!
Слово это всем понравилось, хотя никто его толком не понял, и все стали друг у друга спрашивать, как они будут ходатайствовать.
– Пойдем в суд и будем перед судом ходатайствовать, – решил за всех рыбак.
Аля тут же побежала к тете Заре: пусть мама Казбека предупредит ее, когда будет суд, а она уж все дворы обегает, и все пойдут ходатайствовать. Но предупреждать Алю не пришлось: ей самой прислали повестку. Следователь, который вызывал ее и про все спрашивал, сказал, что хоть она и несовершеннолетняя и ее свидетельские показания полной силы не имеют, тем не менее в суде их решили выслушать.
На суд все, конечно, пойти не смогли, особенно из железнодорожников: кто был в поездке, кто на смене. Зато печник пришел в выходном костюме, пустой рукав аккуратно подвернут, а вся грудь в орденах и медалях. Рыбак был абсолютно трезвым. Вместо школы пришли в суд Люська, Валерка и Немошка. Хотел за ними увязаться и Яшка, но его обманули, сказали, что суд перенесли, потому что он точно бы распсиховался.
Пришли лепрозоровские большой толпой, уселись на скамейке в зале заседаний. Только Алю не пустили. Милиционер сказал, что в зал заседаний ей нельзя входить, пока ее не вызовут, так что пусть она посидит с другой свидетельницей в коридоре. Другой свидетельницей оказалась Ципа-Дрипа, и Аля принялась доказывать милиционеру, что она никакая не свидетельница, потому что прибежала уже потом, на что милиционер ответил,что все это надо объяснять суду, а не ему.
А в зал заседаний уже вошли судья и заседатели, прокурор и адвокат. Когда судья сказал: «Встать, суд идет!» и открыл судебное заседание, поднялся рыбак и на весь зал крикнул:
– Минуточку! Как это суд идет? Мы еще не ходатайствовали!
Тогда судья объяснил, что здесь, в суде, не ходатайствуют, надо было делать это раньше. Лепрозоровские заволновались, но судья строго призвал всех к порядку и предупредил: если кто будет шуметь, его выведут из зала.
Аля еле дождалась, когда ее вызовут. Ей казалось, что она сможет все объяснить и спасти Казбека. Но вместо того чтобы рассказать правду и этим хоть чуточку помочь ему, она стала врать и совсем запуталась. Аля уверяла, что Казбек вовсе не ударил Вошку, а, наоборот, Вошка хотел его ударить, но поскользнулся, упал и разбил подбородок. Все это она выпалила, едва судья назвал ее фамилию. Это его, видимо, рассердило, и он велел ей отвечать только на вопросы, а еще выговорил за Вошку, напомнив, что здесь суд, а не улица, и чтобы она обходилась без оскорбительных прозвищ.
За нее вступился адвокат:
– Девочка хотела сказать «Вовку», так как потерпевшего зовут Владимиром, она просто немножко шепелявит.
Но Аля зло выкрикнула:
– Ничего я не шепелявлю! Я и не знаю, как его зовут, он – Вошка!
Тогда судья опять сделал ей замечание и сказал, что если она так будет себя вести, то ее лишат права давать свидетельские показания и вообще удалят отсюда.
После этого Аля притихла и стала отвечать на вопросы. Рассказала, как потерпевший (выговорила это слово с ненавистью) стал цепляться к Казбеку насчет покурить, а потом ругал весь их поселок и плевался, а потом еще что-то сказал на ухо Казбеку.
И тут до нее дошло, что это «что-то» было сказано в ее адрес и что из-за нее ударил Казбек Вошку. Конечно, придрался Вошка из-за Ципы-Дрипы, но еще неизвестно, дошло бы дело до драки или нет.
Догадка Алю ошеломила, она замолчала на полуслове, разревелась и стояла перед всеми, хлюпая носом и размазывая слезы по лицу.
Судья попросил Алю успокоиться и уточнить, когда же обвиняемый ударил потерпевшего. Но она упрямо стояла на своем: никогда не ударил, это потерпевший хотел ударить, поскользнулся и упал.
Прокурор поинтересовался, кто научил ее врать, и она опять ответила, что не врет, а говорит правду. После этого Але разрешили сесть и приступили к допросу второй свидетельницы.
По словам Тани Иванцовой выходило так, что Казбек давно был влюблен в нее, приставал к ней, каждый вечер поджидая на углу, а когда она стала встречаться с потерпевшим, из ревности цеплялся к нему, и, наконец выждав момент, набросился на него безо всяких оснований и избил. Да, она тоже врала, но все у нее выходило так ровно и ловко, как будто она говорила правду.
Когда она сказала, что Казбек был в нее влюблен, Аля не выдержала и крикнула:
– Да он тебя терпеть не мог! Он для того и ждал на углу, чтоб тебе вслед плюнуть!
Судья постучал ручкой по столу, но реплика почему-то заинтересовала прокурора, и он попросил разрешения задать ей еще несколько вопросов.
– Значит, вы, свидетельница, утверждаете, что обвиняемый и раньше вел себя оскорбительно по отношению к Иванцовой, как вы говорите, плевал ей вслед. Не припомните ли вы, может, при этом он выражал и угрозы?
Адвокат от досады даже рукой хлопнул по столу. А на Казбека Аля и взглянуть боялась. Опять, опять она сказала какую-то глупость, которая только навредит ему.
– Ничего я такого не утверждаю…
– Но вы сейчас разве не говорили?
– Я про Вошку говорила, что он плевался не только тогда, а всегда…
Прокурор даже руками развел,
словно приглашая всех присутствующих убедиться, сколь противоречивы и неискренни показания этой девочки. В своей речи он особое внимание уделил их поселку, где, по его словам, царит нездоровая атмосфера и подобная драка между городским и поселковым парнем явление не одиночное. Вот эту-то нездоровую атмосферу и имел, по-видимому, потерпевший в виду, когда, возможно, позволил себе некоторые критические замечания в адрес поселка.
– Я говорю «возможно», – подчеркнул прокурор, – потому что все вы могли удостовериться, как пыталась ввести в заблуждение суд свидетельница, отрицая столь очевидный факт нанесения удара, в котором сразу признался сам обвиняемый.
Говорил прокурор долго и потребовал меру наказания – три года лишения свободы. Речь адвоката была короче и бледнее прокурорской, а все оправдание сводилось к тому, что обвиняемый молод, приводов в милицию ранее не имел и так далее. Приговорили Казбека к двум годам.
Громко, в голос, заплакала тетя Зара. Аля, обернувшись к Иванцовой, крикнула на весь зал:
– Дура венерическая, вот ты кто!
А потом выскочила в коридор, чуть не сбив с ног какого-то дядьку, и помчалась домой. Дома с ней случилась настоящая истерика. Она глухо рыдала, обхватив руками подушку и вцепившись в нее зубами, а когда испуганная бабушка принялась ее утихомиривать, выскочила вместе с подушкой из дома, пометалась по двору, а потом залезла в собачью будку. И неизвестно, что решил для себя их добрый и бестолковый пес, но к будке не подпускал никого, даже бабушку. Там, согнувшись чуть не втрое, Аля вдруг сразу впала в какую-то странную дремоту. Под вечер, однако, замерзла, вылезла из будки и, все еще не проснувшись, пришла домой и забралась в постель. Подсевшая к Але бабушка обнаружила, что та вся горит.
Так, в горячке, Аля провалялась три дня. Приезжал врач. Поскольку на его вопросы Аля не отвечала, шептался о чем-то с бабушкой. Бабушка говорила про контакт, возможное заражение, и врач решил на всякий случай проверить легкие, выписал направление на рентген. В больницу Аля не пошла. Она знала, что здорова. То, что с ней произошло, сейчас бы назвали обычным стрессовым состоянием.
Прошло еще несколько дней, прежде чем похудевшая, осунувшаяся Аля поднялась на ноги и сразу отправилась в редакцию, где работала ее мама. Ее там все знали и помнили, вот только секретарша была новая и к редактору не пускала, объясняя, что если с жалобой, то надо идти в отдел писем. Но тут он выглянул сам, обнял Алю и завел к себе в кабинет. Сначала про все выслушал, а потом сказал:
– У нас уже занимается сотрудник этим письмом.
– Каким письмом? – удивилась Аля. – Письма не было…
– Ну как же так. Его от ваших поселковых принес товарищ Музафаров.
– У нас Музафарова нет… – начала Аля и осеклась, сообразив, что это отец Акбара.
– Да я сейчас приглашу сотрудника.
Пришел сотрудник, которого Аля тоже знала, с письмом.
– Вот видишь, сколько подписей. А написала Бзежинская.
– Это «Та, которая…» – Аля замолчала, но редактор понял ее по-своему.
– Да, которая без ног. А ты, кстати, знаешь, почему она без ног?
Аля покачала головой.
– Она из польских беженцев. Когда в тридцать девятом фашисты напали на Польшу, армия Андерса отступила. Бзежинской повоевать пришлось. Ноги ей гранатой оторвало. Ну а что касается Казбека, приди завтра, я тебе уже что-нибудь конкретное скажу. Сейчас мы тут обговорим, выясним кое-что…
На другой день редактор сказал Але, что внимательно ознакомился с делом Казбека, и сразу стал ругать ее за то, что так вела себя на суде.
– Если бы не стала врать в главном, то, возможно, суд учел бы все, что предшествовало драке, и принял к сведению как смягчающее обстоятельство. Но если ты утверждала, что Казбек не ударил потерпевшего, а, наоборот, потерпевший хотел его ударить, то тебе, конечно же, не поверили с самого начала. Так что своим враньем ты не помогла другу, а все испортила.
Это-то Аля теперь и сама понимала. Тем не менее возразила:
– Иванцова вообще все врала, ее там и не было вовсе, она потом выскочила, а все равно ей поверили.
– А в общем, конечно, с парнем поступили жестковато, – заключил редактор. – Поэтому надо апеллировать в Верховный суд. Ты приди ко мне вместе с матерью Казбека, я вас направлю к юристу, он поможет написать заявление, скажет, какие документы нужно собрать. Почему, кстати, в деле нет характеристик с места работы, жительства, наконец справки о том, что он серьезно болен?
Аля пожала плечами: кто же думал, что его посадят? И потом никто ведь не научил.
– Что же касается тебя, Аля, – продолжал редактор, – мне крайне неприятно, но я должен тебе сказать, что на суд ты произвела очень плохое впечатление. Мало того, что врала, но и дерзила, оскорбила свидетельницу, проходившую по тому же делу. Позоришь и бабушку с дедушкой, и отца. А о маме ты подумала, об ее памяти? Ее вся республика знала. И судья, кстати, тоже. Я когда сказал, чья ты дочь, он прямо поразился. Говорит: мне и в голову не пришло, хотя у них одна фамилия. Такая, говорит, женщина была – интеллигентная, обаятельная… Бумагу вот собирались тебе в школу отправлять, чтоб усилили воспитательное воздействие. Ты, кстати, как учишься?
– Учусь хорошо. Но если бумагу отправят, вообще в школу не пойду.
– Не отправят. Теперь не отправят. Но ты подумай над собой хорошенько, ладно?
Але было, конечно, не до того, чтобы думать над собой, но она пообещала, что подумает.
Верховный суд отменил решение районного. Наверное, помогло теперь уже настоящее ходатайство и железнодорожников, и соседей. А может быть, и то, что Таня изменила свои свидетельские показания, была на суде вся сникшая, говорила вяло. Ходили слухи, что за Казбека, как ни странно, вступился отец Вошки, действительно прокурор, и будто даже выдал сыну, назвав его подлецом. Но откуда дошли такие сведения, тоже непонятно – не Иванцовы же их распространяли. Так или иначе, из-под стражи Казбека освободили прямо в зале суда, но через несколько дней увезли в туберкулезную больницу из-за обострения болезни.
После этих событий отношение поселковых к Иванцовым, а также к Вошке, совсем испортилось.
Ребята обдумывали план мести.
– Ничего, он нам еще встретится один, этот Вошка, без свидетелей, – выжидали они.
Беспокоился дядя Сережа. Говорил то с одним, то с другим:
– Посмотри на тетю Зару, сколько она, бедная, пережила. Ты хочешь своей матери такого?
Может быть, подействовали уговоры дяди Сережи, а скорее всего то, что Вошка после этого ни разу по эту сторону моста не появился, провожал Таню только до железнодорожного вокзала. Тем не менее, как ни старался участковый, кто-то запустил в окно «врачей по нехорошим болезням» поздно вечером булыжник, и стекло разлетелось вдребезги. Кто-то проколол шины легкового автомобиля одного из посетителей дома Иванцовых и разбил на нем фару. Несколько дней таились ребята, ждали, что станут искать, кто это сделал, однако никаких поисков не последовало. А уж чего только не выкрикивал вслед врачам пьяный рыбак! В общем, жилось им в поселке теперь неуютно. Может быть, поэтому, а может быть, были у них на то свои, неизвестные поселковым причины, но вскоре они продали дом и съехали, в другой ли город или просто из их поселка – никто не знал…
Больница, в которой лежал Казбек, находилась километрах в двадцати от Душанбе, в живописном местечке Рохаты. Все это время Аля только и думала о том, как поедет в больницу к Казбеку, но сделать это было непросто. Бабушка и слышать не хотела: девочке, да одной, да в такую даль? Конечно, можно было бы вместе с тетей Зарой или парнями-железнодорожниками съездить в воскресенье, но в том-то и дело, что Але хотелось поехать к нему одной. Но ослушаться бабушку она все же не решалась, а поехать и обернуться так быстро, чтоб та не догадалась, тоже не получится. Выручила верная подруга Люська.
– Давай прямо с утра, вместо школы, а? Поедем вдвоем, а зайдешь ты одна. Подумаешь, день пропустим! Ты ж способная, сама все выучишь и мне объяснишь.
Люське и так с трудом давалась учеба, но отказаться от такой жертвы Аля была не в силах. Утром выложила учебники из сумки и спрятала под кровать. В сумку же затолкала новое платье из штапеля, потому что в школьной форме ехать к Казбеку не хотелось. Затем зашла за Люськой, и они вместе наврали ее деду, рыбаку, что у учительницы день рождения, и он срезал для них самые красивые розы. На вокзале забежали сначала в туалет, где Аля надела новое штапельное платье, которое, конечно, уже помялось в сумке, потом в буфете купили два пирожных с воздушным розовым кремом и стали ждать автобуса.
Когда автобус пришел, народу набралось уже так много, что они едва втиснулись в него. Давка была такая, что пирожные, которые Аля держала в руках, прижимая к груди, тут же сплющились, а розовый крем стекал струйками по платью. Прекрасные розы съеживались и увядали на глазах… Еле доехали до нужной остановки, а там еще надо было идти пешком вверх по ущелью. Люська разнылась и жалела, что поехала, мало того, стала высказывать всякие предположения насчет того, что будет в школе и дома, когда их разоблачат. Аля отмахивалась: уж об этом-то они еще успеют попереживать. Худо-бедно – добрались. Только вот к Казбеку их не пустили. Оказывается, посещения разрешены только по воскресеньям. И опять они ехали в душном, переполненном автобусе, и худо-худо было на душе у Али.
Теперь она, как и обещала редактору, думала о себе. Думала примерно так: «Я очень, очень плохой человек, потому что все делаю плохо. И потому что я вруша. Из-за этого я все чуть не испортила на суде, а сегодня обманула бабушку, не пошла в школу, сбила с толку подругу, испачкала платье, которое бабушка шила мне ночами, чтобы я была нарядной на Первое мая, и за все это мне сегодня, конечно, очень хорошо влетит…»
Весной, когда Аля сдавала экзамены за шестой класс, к тете Заре приехал брат с Кавказа, чтобы увезти ее с детьми на родину. Казбек приехал на вокзал прямо из больницы, в поселок заходить не стал.
Сдавала экзамены Аля на пятерки, но ни отметки, ни сама весна ее не радовали. И даже праздник, к которому готовился весь поселок по случаю асфальтированной дороги и обещанного освещения, мало занимал ее. Теперь эта затея казалась ей даже глупой. У всех свои дворы, сады, там столы, скамейки деревянные, так нет, нужно вот так, прямо на улице, прохожим на смех. Причем поначалу устроились под окнами Алиного дома. Хорошо, что «Та, которая в окне», сказала:
– Я хочу тоже праздник поближе…
И тогда все перебрались под ее окно. Таким образом она тоже как бы присутствовала за дастарханом, а угощение ей подавали на подоконник. Пришел на костылях и Китаец, жена подложила ему под бок подушку. Если честно, было, конечно, очень весело и хорошо. Женщины напекли пирогов, дядя Саид сделал плов, вино принесли свое, виноградное. Тосты поднимали за то, чтоб не было войны, за здоровье присутствующих и за летчика Нестерова, зазывали случайных прохожих, Китаец показывал фокусы. А Аля думала горько: всем хорошо в нашем городе, в нашем поселке, который хоть и назывался когда-то Лепрозоркой, но принял, приютил столько людей, потерявших свой кров во время войны. Всем, кроме тети Зары и Казбека…
Когда Аля вернулась в купе, попутчик, против ожидания, не спал, сидел за столиком и смотрел в окно. Аля тоже села у столика и стала листать купленный на вокзале журнал. И вдруг она почувствовала на себе взгляд человека узнавшего… Быстро вскинула глаза, но нет, он опять уже смотрел в окно.
Не решается узнать? Или не хочет? Ей надоело играть в прятки. Отложила в сторону журнал.
– Скажите, вы не узнали меня?
– Простите, нет. А как вас зовут?
– Алина Николаевна.
– Мне это имя, признаться, ничего…
– Еще бы! Меня тогда звали просто Аля. Мы жили с вами на одной улице.
– В каком городе?
– Ах, да в Душанбе же, конечно!
– Мне очень жаль, но вы ошиблись. Я еду в этот город впервые.
Значит, не хочет… Ну что ж, может быть, это уже совсем не тот Казбек и у него есть причины не узнавать Алю. А как обидно! Ведь она помнила, думала о нем. И как хорошо было бы пригласить его домой, познакомить с мужем, детьми. Может, чуточку пококетничать. Так, самую малость. И они вместе сходили бы в поселок, там еще живет кое-кто из стариков. Молодежь разлетелась. Валерка Воронов стал известным режиссером, лауреатом Государственной премии. Люська – такая знатная портниха, что к ней пробиться можно лишь по большому блату. Немошка, как и его отец, тоже продавец. Вот только честности отцовской, как Але кажется, не унаследовал. Ездит на «Жигулях», толстый, аж лоснится весь. И первая фраза при встрече: «Аля, если что нужно – звони. Для старых друзей…»
Аля даже о Тане Иванцовой кое-что могла бы рассказать Казбеку, хотя сама о ней узнала случайно. Писала однажды материал о проблемах туберкулезного диспансера, разговорилась с Дильбар, новой сотрудницей газеты, с которой сидела в одном кабинете и успела подружиться. И потянуло на откровение, рассказала о больном Казбеке, о том, как ездила в детстве в этот самый диспансер. Упомянула историю с Таней Иванцовой, и та вдруг встрепенулась:
– Подожди-ка, я, когда жила в Ленинабаде, знала врача Татьяну Иванцову. Дружила с ней. Не та ли?
Оказалось, та. Диля говорила о ней:
– Очень славная и разнесчастная баба. Что-то там с родителями, какая-то скандальная история. Муж – мерзавец, ушел от нее, а она его очень любит. Растит одна двоих детей, тащит на себе больных старых родителей. И причем заведует отделением, следит за собой, много читает. Давай заскочим к ней в Ленинабад. Рядом ведь. Все твои детские впечатления развеются. Не знаю, что там у вас произошло, но мнение у тебя о ней совершенно превратное.
Аля минуту-другую поколебалась. Но нет, не смогла, не перешагнула…
Однако зачем это все вспоминать, если тебя не узнают?
Что ж, примем его игру. Аля извиняется:
– Простите меня, я, видимо, обозналась. Иногда встречаются очень похожие люди.
– Конечно, конечно. Мне даже приятно, что вы меня с кем-то перепутали. Надеюсь, это был хороший парень?
– Был, – (Аля сделала ударение на слове «был»), – хороший.
– Раз уж мы с вами разговорились, скажите, кто вы по профессии?
– Врач, – почему-то соврала Аля.
– И по какой специальности?
– Фтизиатр. Лечу туберкулез.
И опять ей показалось, будто что-то промелькнуло в его глазах, какой-то теплый всплеск. Впрочем, это бывает. Самообман, услужливое воображение.
– А сейчас из отпуска? – продолжал разговор попутчик.
– Да.
Аля теперь отвечала односложно. Казбеку, не признавшему ее, Аля не хотела рассказывать о том, что все отпуска они с мужем проводят в путешествиях. Когда удается пристроить детей – вдвоем, когда не удается – по очереди. Где только не успели они побывать! Вот только в городах, рядом с которыми, можно сказать, Аля выросла, то есть в Бухаре и Самарканде, до этой поездки не была. Муж Костя, выросший в Узбекистане, напротив, знал там каждую улочку. Поэтому, когда Диля собралась в эти края навестить родственников и пригласила Алю с собой, посоветовал: «Съезди, не пожалеешь». Управились за неделю, возвращались через Ташкент. Ничего этого она не стала рассказывать, но все-таки спросила:
– А зовут вас случайно не Казбек?
Он покачал головой:
– Нет…
Теперь Аля нехорошо, неуютно чувствовала себя рядом с попутчиком. Она даже обрадовалась, когда на одной из остановок к ним в купе вошел новый пассажир и, поздоровавшись, стал устраиваться на свободной верхней полке. На вид тоже кавказец. Что ж, как сказала бы Диля, на кавказцев нынче урожай. Казбек (про себя она так и продолжала называть его) тоже оживился, начал почти расшаркиваться:
– Добро пожаловать.
Тут же спросил:
– Не земляк?
– Пока не знаю, – ответил тот и стал что-то спрашивать на своем языке. Казбек ответил. Аля прислушалась, – говорили не по-осетински, осетинский бы она узнала.
Перебросившись несколькими фразами, мужчины похлопали друг друга по плечу. Затем Казбек опять достал мандарины и вино, пригласил Алю посидеть с новым попутчиком, но она отказалась, легла и в самом деле в скором времени уснула. Дело шло к вечеру, и в купе стало заметно прохладнее.
Разбудила ее Диля. Мужчин в купе не было. Объяснила:
– В ресторан отправились. Звали нас, но я сама не пошла и тебя будить не разрешила.
Взяли у проводницы чай, поужинали бутербродами с сыром, а когда явно навеселе пришли мужчины, уткнулись в книжки. Не хватало только пьяных ухаживаний! Тот, второй, ужасно противный. Такие скользкие, сальные глаза. А Казбек с ним как брат родной. И хорошо, что он не стал узнавать ее, потому что сейчас это обязывало бы к общению. А может, это все же не Казбек?..
Всю ночь она спала тревожно, настороженно, потому что так быстро подружившиеся мужчины то выходили курить, то рассказывали вполголоса друг другу анекдоты, а потом, забывшись, громко смеялись. К утру, когда они подъезжали к городу, Аля даже смотреть не хотела на так называемого Казбека. Да и он, обнявшись с новым другом, даже не сказал женщинам до свидания.
Аля с Дилей еле тащили тяжелые сумки – каких только гостинцев не насовали им Дилины родственники. А ведь собирались вернуться налегке, оттого и не предупредили мужей, чтоб встретили. Где-то впереди мелькали в сутолоке привокзальной площади соседи по купе. И вдруг все произошло, как в детективном кино. Когда попутчики поравнялись с серой «Волгой», от нее отделились двое: один встал впереди Казбека и его товарища, другой обошел сзади. Аля зажмурилась. Громко хлопнула дверца машины. Тогда она рванулась вперед, мимо, волоча за собой сумку. Неужели, неужели ей второй раз суждено это пережить?
Инспектор Душанбинского уголовного розыска Рахматулло Файзиев, человек по природе восторженный, не переставал повторять:
– Скажи, как хорошо мы его взяли! Держу пари, что никто в привокзальной сутолоке даже внимания не обратил…
– Ну, нет, – возразил его коллега из Орджоникидзе Казбек Цориев. – Одна женщина заметила непременно. Только, по-моему, она решила, что нас взяли вместе…
Они вышли на улицу, вечер был душным, прохлада еще не успела спуститься с гор.
– Поедем ко мне, – пригласил Рахматулло.
– Нет, – отказался Казбек. – Мне нужно отыскать одну женщину. Свидетельницу.
– Какую свидетельницу? – не понял Рахматулло. – По какому делу?
– По моему собственному, – ответил Казбек.
(Окончание в № 11-12.2014)