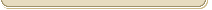Акция Архив

3 марта стартовал молодежный конкурс журнала «Север» «Северная звезда»-2024

Литературная премия журнала "Север"
Лауреатами литературной премии журнала «Север» за 2023 год стали Анатолий Ерошкин (Петрозаводск – Краснодар), Егор Перцев (г. Олонец, Республика Карелия), Николай Полотнянко (г. Ульяновск).



Позвоните нам
по телефону
− главный редактор, бухгалтерия
8 (814-2) 78-47-36
− факс
8 (814-2) 78-48-05
"Север" № 01-02, стр. 142
Кто следующий?..
Григорий ФУКС, ПРОЗА
Григорий ФУКС
г. Лос-Анджелес
Кто следующий?..
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?..
(криминальная история в двух частях)
«Кто любит, тот летит,
стремится, радуется.
Свободен он – ничто его не держит».
Фома Кемпийский, религиозный мыслитель (1380–1417 гг.).
В последние годы число без вести пропавших
в России колеблется от 70 до 120 тысяч
человек в год, т.е. четырех тысяч в сутки.
Из числа пропавших ежегодно находится
до 50 тысяч человек.
Из справочных сводок МВД России
Главные действующие лица
Мозговой Константин Евсеевич, доцент провинциального университета, психолог. Возраст – за тридцать. Сангвиник.
Ласточкина Веточка, его жена, сначала студентка, потом кандидат психологических наук. Моложе мужа лет на 12. Холерик.
Гиацинтов Филипп Додонович, главный режиссер драмтеатра. Чуть за сорок. Реформатор.
Худых Раиса, его жена, заслуженная артистка. Страшненькая. Лет 35.
Мякишев Михаил Саврасович, местный художник, авангардист. На вид лет около пятидесяти, по паспорту – 35.
Ширинкин-Поцелуйкин Гермоген Бонифатьевич, академик в Петербурге. Психолог, 65 лет. Жизнелюб и оригинал.
Степка, растущий ребенок Веточки и Константина. Баловень.
Остальные действующие лица – студенты, преподаватели, актеры провинциального города Чухломы.
Время действия – годы перестройки и строительства демократии.
Часть первая
I
О последствиях опоздания
Любая закономерность проявляется
через случайности.
Константин Евсеевич Мозговой – доцент местного университета, ученый психолог, не любил опаздывающих, но сам нередко задерживался. Был он личностью неординарной, увлекающейся и талантливой. Мог исполнить фрагмент оперной арии или классического романса в кабинке общественного туалета. Сочинял сценарии студенческих капустников и сам в них с удовольствием участвовал. Возбуждаясь, краснел лицом, но не психовал. По лестницам поднимался размашисто, не сбивая ритм дыхания. Сказывалось занятие волейболом, особенно в студенческие годы. Его любили безо всяких оговорок коллеги и особенно студентки. Он попал в Чухлому после питерского университета, по совету и рекомендации научного руководителя и доброжелателя знаменитого психоаналитика академика Гермогена Бонифатьевича Поцелуйкина. Настоящая его фамилия – Ширинкин. Но привычка сочно целоваться с коллегами и аспирантками дала повод для такого варианта. Говорили, что он как-то получил официальную бумагу, адресованную не Ширинкину, а Поцелуйкину. Но он был настолько велик и прекраснодушен, что подмену воспринимал благожелательно. Что касается Константина Мозгового, то, отъехав в Чухлому, в Питер не вернулся, утвердившись первым на деревне. Чувствовал себя комфортно, не испытывая толкотни локтями. Через года полтора защитил кандидатскую и вскоре получил досрочно доцента, имея по протекции Поцелуйкина возможность для частых публикаций.
В тот достопамятный день, от которого пойдет отсчет этой детективной истории, доцент Мозговой опоздал на встречу первокурсников с администрацией и преподавателями факультета. Завтракая, заболтался с симпатичной ему официанткой Клавочкой. Взлетел прыжками на последний этаж и мышкой юркнул на свободное крайнее кресло. Но тут услышал комариный писк: «Извините, это место занято». Он глянул вправо и секундно замер. Зрачки приоткрылись, сверкнула вспышка, как у фотоаппарата. Соседка четко попала в кадр. Зафиксировалась и осталась. «Девочка с персиками» кисти Серова. Поняв, кто сел рядом, извинилась, не пряча взгляда. Только быстро поправила прическу. Мозговой, слушая вполуха нотации декана, мысленно пересматривал снимок соседки. Такие даже в Питере порхали штучно. А может быть, свет так падал из окна, не в лицо, а со спины, скрывая минусы. С такими случаями он встречался. Вечером в кафеюшнике познакомишься с куколкой, а утром окажешься рядом с чучелом.
Уходя, он еще раз навел взгляд на соседку, но куда с большей выдержкой. Она свой не отвела, но ушки чуть порозовели. Константин тоже покраснел и даже почему-то извинился. Этот снимок получился лучше, контрастней и крупней. Ему захотелось сделать третий, пойти следом, завести разговор. Но он вспомнил, кто он теперь есть. Прошли, растаяли его студенческие увлечения. Будь один, запел бы строчку из арии опричника Грязнова: «Теперь я стал другим. Все миновало». Миновало, конечно, но не все. Он был влюбчив и умел волочиться долго и красиво, чередуя сногсшибательные поцелуи со стихами Есенина, Пушкина, Блока, Евтушенко… Длинные девичьи ножки его гипнотизировали. Он первым делом искал глазами их, а потом лишь смотрел на все остальное, но снова обращался к ним. В Питере, в университете друзья называли его обжималкиным. Ухаживал он легко, без соплей. Девушкам это нравилось, но в мужья его не хотели. Он был ласков со всеми. Раньше Костя влюблялся постоянно, то в Морковкину, то в Петрушкину, и всякий раз казалось, что впервые.
Приехав в Чухлому, он быстро остепенился в прямом и переносном смысле. Положение и статус его сдерживали. На студенточек поглядывал, но без последствий. «Кажется, старею», – иногда философски подумывал о себе.
«Ей, скорее всего, восемнадцать, – размышлял Константин после собрания. – Мне скоро тридцать. Возможно, ее отец ненамного старше. Совесть надо иметь». Увлечься таким ребенком с интимными последствиями было, конечно, современно, но не в его моральном кодексе. Хотя приятели его университетского круга студентками не пренебрегали. К тому же он пока не собирался углубляться в тину повседневной пожизненной привязанности. Ему бы хватило поэтической сублимации, как Пушкину к Анечке Керн. Сам стихов он почти не писал, кроме юморесок в капустники, но чудные мгновения испытывал и ценил как истинную пищу для души. А тело можно приспособить к разному. Богу богово – кесарю кесарево. Тем более у него был легкий романчик с замужней ассистенткой с физмата. Но девочка его впечатлила углубленно. Огорчало отсутствие реальной перспективы для подробного знакомства. На первом курсе он не читал лекций. Все сдвигалось на год. Срок немалый. Он снова представил соседку, ее нежное одушевленное личико и расстроился. Но судьба, как говорится, плела свои сети. В начале каждого учебного года студентами выбирались спецсеминары на все годы занятий у разных преподавателей кафедры. Взяв список участников своего семинара «Остроумие и его отношение к бессознательному», как обычно, следуя своему правилу, пошел в отдел кадров ознакомиться с личными делами студентов. Любил знать, с кем тягаться в бессознательном и сознательном остроумии. Просматривая внимательно папку и делая нужные себе пометки в пухлый блокнот наблюдений, он вдруг наткнулся на реальное фото своей недавней незнакомки. Суженное до маленького прямоугольничка, на него глядело то же личико – черно-белое, но такое же выразительное. Теперь он знал, что это – Иветта Мельхиоровна Ласточкина. Он подумал: «Такое не случайно. Некто подает знак». Мозговой был материалист, но верил в магию необъяснимого.
Ласточкина Иветта приехала из райцентра с высоким баллом ЕГЭ. Участница российских олимпиад по нескольким противоположным направлениям: математике, биологии и литературе. Окончила музыкальную школу, в местном клубе играла на ударных, участвовала в школьном драмкружке, выпуская стенгазету, занималась в ДЮСШ по легкой атлетике, предпочитая спринтерские дистанции, и имела разрядные результаты. Короче – аномальная индивидуальность. Он ею загордился. Ему нравилось все талантливое.
Шел на первое занятие волнуясь. Вдруг передумала? Первокурсницы такие легкомысленные. Узнала, что подружка в другом семинаре, и переметнулась. Но Веточка оказалась на месте. Он сразу перезвал ее на свой лад. Она сидела по центру, в метре от него. Увидев ее, он кивнул и улыбнулся адресно, а потом остальным. Она ответила, не формально, а лукаво. Понимай как хочешь. Он воспринял перспективно. Их глаза встретились, как у Толстого у Сони и Николая. Пока, как у них, «не поцеловались», но с расположением. Теперь он разглядел ее подробней, подетально. Ничего не увидел кукольного, вызывающего, афишного. Провинциалка провинциалочкой. Но ни грамма чужого, безвкусного. Настоящая лесная веточка, шагнувшая в прямоугольник комнаты под лампы искусственного света. Остальные рядом с ней казались неживыми, хотя были среди них смазливенькие, заставляющие задержать взгляд.
Как проницательный ученый, он на первом же занятии оценил подвижность ее психики. Отметил гармоничное сочетание темперамента и пластику движений. Он представил похудевшую Венеру Милосскую, опустившую стройные ножки с пьедестала, чтоб исполнить какую-нибудь тарантеллу. Движения лишь подчеркнули бы красоту линий и сердечность характера.
Кстати, отчество у Веточки тоже выглядело экзотично – Мельхиоровна. Угадай, откуда корни. Друзья филологи, покопавшись в анналах, разводили руками. Как в райцентр, заозерную глушь занесло французские имена. Не иначе из пленных армии Наполеона. Мельхиор получили два французских инженера, Майо и Шорье. Выходило, что у Веточки могли случиться гены французских гренадеров. Тогда понятна ее утонченность, пустившая корни в местный грунт.
На семинарах она раскрылась в новых красках. Они монтировались с его темой. С остроумием у нее был порядок, что доставляло ему, как ученому, удовольствие. Все по формуле психолога Джона Пауля: «Свобода дает остроумие, остроумие – свободу». Он радовался эстетическому восхищению от Веточки без примеси низменного влечения, позволяя оставаться объективным, сохраняя, по уважаемому им Фрейду, «игровое суждение», без оков сексуальной зависимости. Кристаллизация его увлечения Веточкой началась с интеллектуального восприятия, как ощущение прекрасного, полезная сублимация чувственного. Рассуждая подобными категориями, он сверял эротические координаты.
Мысль предложить тему остроумия в произведениях Чехова для доклада Веточки на весенней студенческой научной конференции показалась Мозговому крайне удачной. Тема была перспективной и позволяла вести разработку для диплома на пятом курсе. Где ни копни, хоть в пьесах, хоть в ранней или поздней прозе, имелись залежи чеховского остроумия и иронии. Такой вариант открывал возможность для общения с Веточкой подолгу и с глазу на глаз.
Их беседы теперь напоминали состязания в литературных парадоксах, колких фразах, шутках и остротах. Веточка проявляла все больше юмора, ума и обаяния, теряя скованность, но сокращая дистанцию. Все по теме, в научной колее. А доцент все глубже увлекался, погружаясь в нежелательную ему тину привязанности.
Естественно, она старалась произвести впечатление, общаясь с популярным на факультете преподавателем, талантливым ученым, достаточно молодым, симпатичным, хотя и краснолицым, с легким чувством юмора и другими привлекательными чертами. Не прицельно, но случалось, она морщила кокетливо носик, заманчиво улыбалась, что свойственно даже самой неказистой женщине. Но было это так мило и естественно, что Константин не чувствовал ни капли фальши. Дни без встреч стали казаться ему пасмурными. То, что раньше его устраивало, стало как-то беспокоить и настораживать – отсутствие чувственного интереса. Но как ученый-психоаналитик сам себя успокаивал, что еще не пришло время. Он пока в предчувственной фазе, когда влечение чисто платоническое, без стремления к реализации. Так сказать, поэтическая сублимация, рождающая бессмертные строки, лирические мелодии, полотна чудных мгновений жизни. Но его виденье было не мимолетным и вызывало другие строки: «продлись, продлись, очарованье».
Возжелай Александр Сергеевич Анечку Керн изначально, не бывать бы поэтическому прозрению о гении чистой красоты, сердечном упоении души, несовместным с сексом. Его состояние, по великому Фрейду, и было чувством, называемым любовью, сублимирующее до срока страсть в нежность и душевное удовольствие. Позволяя, по угасанию страсти, сохранять верность чудным мгновениям прошлого.
«Как же мне повезло повстречать такую прелесть, – умилялся он, – искреннюю, непосредственную, чистую, как безоблачное весеннее небо». Он, в принципе, как ученый, постигающий тайны души, не считал сентиментальность достоинством, но для Веточки допускал погрешность. Размышляя о ней высоким слогом, смягчал все же нотками иронии. Без нее он считал высокий слог пошлым. Называл ее для себя «чудом природы», из божественной мастерской, авторским экземпляром, а не массовой штамповкой ширпотреба. Бог ее метил собственной рукой, оберег от происков сатаны. Он знал многие мудрости ученых, мыслителей, пророков о сути и смысле бытия. Как доктор Фауст готов был на встречу с Мефистофелем, чтоб отдать свою душу за вечную юность, свежесть Веточки. Если быть полностью научно корректным, Константин Евсеевич опасался не столько возрастных изменений во внешности и характере Веточки. Меняться они будут параллельно, правда, она, как женщина, заметнее. Смущало его другое – утеря свежести чувств. Они охлаждаются быстрее, чем появятся первые морщинки и складочки на нежной шейке. Как это случается у других, его не интересовало: охлаждения, разводы, измены. Он заранее пытался решить вечную проблему – сохранения радости и азарта бытия. За себя он почему-то был спокоен, а за Веточку переживал.
Иногда он видел ее то с одним, то с другим парнем, идущей с ними под руку. Отворачивался, избегая встречи. Понимал, что Веточка не кукла. Не может не вызвать интереса, причем не только у сверстников-студентов. Она как-то ему призналась, лукаво улыбаясь, что, наверно, укутается платком, как мусульманка, чтоб укрыться от внимания поклонников, которые проходу не дают. Она не собиралась его поддразнивать, а делилась по искренности характера.
Иногда, дежуря на студенческих дискотеках, он лично наблюдал, что Веточка ни танца не подпирала стеночки, а вертелась как белка в колесе. Он тоже ее приглашал, а она его на дамский танец. Она танцевала легко, не задерживая ножки на паркете. Он как мог подыгрывал, принимая ее ритм. Перехватывал руку, придерживал талию. Иногда они складывались в одну фигуру и тут же разлетались на длину рук.
Фактор времени, чувствительные уколы ревности стали вытеснять сублимацию восхищения чувственным интересом. На смену бестелесному видению, гению чистой красоты пришло земное притяжение двух разнополюсных зарядов.
Что касается Веточки Ласточкиной, то за семестр работы в семинаре Константин Евсеевич стал понятным, нужным и почти своим. Был прост, доступен, открыт, убирая какую-либо дистанцию – профессиональную и возрастную. Она чувствовала его особое к ней внимание, объясняя успехами в семинаре. За глаза она давно звала его для себя Костей. Он ей нравился, и не только как умница, большой эрудит. Но чисто по-женски о нем не думала. В голову не приходило на такое замахиваться. Сказывалось, очевидно, провинциальное воспитание, несмотря на все эротические инновации.
Однако особое к ней внимание доцента не осталось незамеченным кое-кем из участниц семинара. Оно не укладывалось в рамки консультаций, переходя границы бессознательного юмора. Болтали всякое в меру фантазии и зависти. Людмила Лежепекова, ни дня не жившая без парня, настойчиво утверждала, что готова поклясться невинностью, какая Ласточкина притвора и тихушница. Давно трахается с доцентом, а строит из себя целку. Веточка, прослышав про такие наветы, испытывала неловкость и расстраивалась: вдруг такая чушь просочится до Константина.
Говорят, что факультетская секретарша Маргарита Залысина, имевшая виды на холостого доцента, ему что-то шепнула из личной дружбы. Может быть, события ускорил молодой летчик-лейтенант, поджидающий Веточку после лекций. Константин Евсеевич решил перейти Рубикон, пригласив Веточку в театр на «Кармен». Она, не ожидая такого, опешила, спросив: «Меня одну?»
У театра он взял ее под руку и придерживал до конца спектакля. Провожая до общежития, шутливо философствовал: «Сюжет до предела банален. Никакой сублимации. Первобытный секс без души. Все на уровне инстинкта». Веточка не соглашалась: «В новелле Мериме – наверное. Но у Бизе такая музыка! Высокая сублимация чувства».
II
Весна в сентябре
После театра Константин повел себя активно, не скрывая серьезных намерений. Приглашал на культурные мероприятия, в филармонию, музеи, выставки. Наконец повел в ресторанчик «Носорог». В полумраке они сидели за отдельным столиком, потягивая коктейли, по глоточку ягодный ликер, слушали нешумную музыку, говорили, как заговорщики, шепотом, сближаясь для удобства головами. Он прикрыл ее мягкую ладошку своей, слегка нежно прижимая. Наконец они сладко коснулись губами, сохраняющими вкус ликера. Сознание заменили ощущения, увозящие в туманность подсознания. Все строго по науке. Исчезли разделяющие грани возраста, опыта, эрудиции. Они соединились, еще не окончательно, но безвозвратно. Он провожал ее почти до общежития, и они целовались под каждым деревом, скрытые кроной от фонарей. В ней вдруг открылись шлюзы сдержанности, побеги весенней энергии, хотя на дворе начиналась осень. От нее отлетали, словно солнечные зайчики, электрические разряды озорства и лукавства. Еще в школе, занимаясь в драмкружке, она любила изображать всех персонажей пьесы: старичков, старушек, мамаш, папаш, солидное руководство, а также собственных учителей и лиц, известных всей стране, передавая точка в точку их голоса, игру лица, движения и другие черточки. Копировала птиц, животных, доводя зрителей до колик. Руководительница драмкружка советовала стать артисткой. В университете, на новом месте, она не чувствовала себя как дома, и лицедействовать было неловко. Ухаживание Кости ее оживило, как поцелуй принца спящую красавицу. На первом же после «Носорога» семинаре она показала свои уснувшие таланты фейерверком пародий на знакомых персонажей. Возникали декан, проректор, ректор, вечный российский президент… Константин хохотал громче всех, краснел пурпурно небольшим лицом.
Ее, как в школе, потянуло к барабану и тарелкам. Появилась на репетиции университетского оркестрика. Попросила пустить ее к ударной установке и со второй пробы так отстучала свои аккорды, что была принята без всяких условий.
Выбрав теплый для осени денек, позвала Костю на свою тренировку на стадион. После разминки пронеслась сотку под секундомер, мелькая ножками, как велосипедными спицами. Университетский тренер Павел Симыч Оголтелов глазам не мог поверить, но оба секундомера, которыми он мерил время, показали одинаковый итог: 12,3 секунды. Это было рекордное для Веточки время. На прошлой тренировке было на полсекунды хуже. Откуда такой взлет! И попутный ветер в норме. Оголтелов даже обнял Веточку, заметив, что при таком раскладе первый разряд не за горами. А там – дай бог не сглазить – заветная мастерская колодочка. Доцент, не решившись на людях на большее, пожал Веточке руку, да так крепко, что она ойкнула.
Теперь на семинар она брала с собой альбом, где за время учебы появились два-три рисунка. Ее снова потянуло к карандашу. Карандаш – к листам альбома. Рука вновь стала легкой, и грифель скользил по бумаге фигурными кольцами по льду. Ей хотелось зарисовать все, на чем останавливался глаз: лысеющие к зиме деревья, гроздья рябины в парке, последние паруса в заливе, а главное, забавные шаржи на однокашников в виде разных зверей: лесных, степных, домашних. Не стал исключением Костя. Все рисунки она показывала студентам, а его – постеснялась. Его она изобразила в виде страуса: в брюках, пиджаке, шляпе. Ему она рисунок подарила, получив нежный поцелуй.
Ей захотелось записывать стихи. В школе сочиняла смешинки в стенгазету. В старших классах доросла до лирики. Сначала она писала о природе – как это водится у многих начинающих. Это были бесполые рифмованные строчки-девственницы о набухших клейких почках, гусиных лапках осенних листьев, звездочках-снежинках в черном небе и тому подобные наблюдения натуралиста. Совсем другие стали проклевываться, когда Костя, открыв свои чувства, вызвал ответное у нее. Учитель наконец увидел в ней женщину, а не только способную студентку. Он открыл ей таблицу Менделеева с элементами неведомых ей раньше достоинств. В ней возник особый, неизвестный прежде интерес к себе, удивляющий качельным взлетом. Тогда написала необычные для себя строки:
Взлететь. Заблудиться.
Да что там иные таланты –
Себя позабыв в ослепительном белом бреду,
На цыпочки встала и будто на шатких пуантах
По простыне снега к тебе осторожно бреду...1
Прочла и зажмурилась, увидев себя заново: «Какая же я взрослая. А вчера была ребенком». Показала целиком написанное Константину. Он, помолчав, без иронии похвалил: «Хорошо».
Через пару дней, закончив беседу о юморе и иронии в поэме Гоголя «Мертвые души», попросил Веточку задержаться, вынул из дипломата чуть примятую гвоздику, сделал предложение выйти за него замуж.
Они, как парные парашютисты с одним парашютом, шагнули в туманность семейной жизни. Семейная жизнь ее не разочаровала. Костя был нежен и, естественно, опытен. Плотское и духовное у них совпало. Он радовался ее спокойной чувственности. Природа их миловала. Философские разговоры, как и долгое ухаживание, нередко отбивают чувственное влечение. Трудно, задержавшись в дружеских контактах надолго, потом превратиться в пылких любовников. Костя помнил рассказ Джека Лондона о двух влюбленных, решивших полным воздержанием сберечь страсть как можно подольше. Они сгорали от желания, но держались, как спартанцы против персов. А как-то, проснувшись, почувствовали пустоту. Жар желания превратился в пепел. Лежали рядом, красивые как боги, но холодные и чужие.
Косте и Веточке повезло. Любовные страсти им были в радость. Иногда для Кости даже в тягость. А Веточке хоть бы что. По утрам иногда что-то мурлыкала, но не в голос, опасаясь сфальшивить. Какая-то подружка сказала, что у нее нет голоса, отбив у Веточки охоту петь, ей хватало радости без этого. Убеждала Костю, как будущий ученый, что творческий юмор рождается только в солнечные дни, а ирония и сарказм в дождь и непогоду, когда хочется язвить, срывая зло. Но сама светилась солнышком даже в слякоть и писала строчки:
Какие красивые птахи
Сегодня меня навещали!
Пестры оперенья-рубахи,
Так весело мне верещали…
Чуть печалясь, складывала другие:
Солнечный луч.
Все прозрачнее, легче
в раме оконной светопись дня…
Ранняя осень все-таки лечит,
лучше лекарства лечит меня…
Зимой они ходили на лыжах в лес и через льдистое озеро к скалам. Летом бродили по мшистым холмам, кланялись каждой заманчивой ягоде. Ночами просиживали у костра и, накрывшись плотнее одним одеялом, вслушивались в белесую тишину – несравнимую ни с какой другой. Спать влезали в тесную палатку, в один спальный мешок, когда темный восток давал первую трещинку, ясную, как клинок. А через час-другой вскакивали, выспавшись, будто начинали жить заново. Иногда замирали, слушая кукушку. Лет она отбивала много, а вот сколько из них в медовой любви?
Она окончила университет с почти готовой кандидатской по той самой теме, что готовила с Костей с первого курса. Ее оставили при кафедре, направив в заочную аспирантуру, где царствовал Костин наставник, великий и ужасный академик Поцелуйкин.
Все шло, казалось бы, как надо. Костя обожал свою Веточку, Веточка о лучшем не мечтала. Но он был не просто мужем, а еще и психоаналитиком, ученым-теоретиком и не мог не прогнозировать будущего. Корил себя за очевидную мнительность. К чему при ясной безоблачной погоде травить себя мыслями о ненастье. Но мудрость иудейского царя Соломона не давала покоя. «Все проходит». Проходит безвозвратно, во всяком случае, по качеству. Сегодня Веточка вся в счастье, сверкает глазками, порывиста, азартна. Ей все в охотку, все любопытно. Но жизнь идет по незыблемой колее. Допустим, он не та Эльза из немецкой сказки. Не отправит будущего ребенка за вином в погреб, где висит тяжелая борона. Но борона – символ. А с судьбой не поспоришь. Не откажет в любви верная Маша очередному Дубровскому, не будут верны до гроба Татьяна Гремину, а Гуров, если сойдется семейно, с дамой с собачкой – нежной и преданной Анной Сергеевной. Знал, знал это мудрый-премудрый Антон Павлович, но решил сочинить утешительную сказку. То же не минует его и Веточку: серые волки и заманчивые Белоснежки ждут не дождутся своего часа. Тускнеет срез свинца, темнеет серебро, железо покрывает ржавчина. Так и желание теряет новизну, а нервы помнят жгучесть ощущений и требуют наркотик новизны. Бесполым проще, хотя тоже непросто.
За себя он был спокоен. За верность Веточки тоже. Не так она была устроена, чтоб искать приключений или уступать искушениям. С характером была девочка. Закисла бы, но не сдалась. Вот это его тревожило, не давало покоя. Как сохранить ее свежесть, яркость, удовольствие от жизни. Задачи были непосильны, но он был в поиске. Искал подсказки у столпов психоаналитики.
III
Академик предостерегает…
Года через два, досрочно, Веточка защитила в Петербурге кандидатскую диссертацию при одном голосе против. Ей щедро аплодировали. Такая молодая, а уже на коне. Председатель комиссии академик Поцелуйкин, вдохновитель и организатор Веточкиных успехов, нежно ее обнял, троекратно облобызал в губы, незаметно показав язык Косте. С основательностью печати отметил, что диссертация – новое слово в науке, когда в пьесах Чехова найдены элементы подсознания в мотивации поведения некоторых персонажей.
По случаю успешной защиты на банкете в уютном «Фрегате» на Васильевском Веточка, осушив бокал шампанского, забралась на эстрадку к музыкантам, попросила удалиться ударника и азартно сталкивала литавры, сопровождая ударами барабанов. Поцелуйкин разглядывал Веточку с обожанием большим, чем при защите ею диссертации. Кандидатов он подготовил не один десяток, но впервые видел барабанщицу. Защита под литавры его впечатлила. Облизывая увесистые губы, твердил Косте конфиденциально, что тому уже пора перебираться обратно в Питер и здесь вить семейное гнездышко. Сокрушался, что в их дебрях Веточка зачахнет. Такой девочке нужны невские перспективы, а не клюквенные болота. Константин пытался дискутировать, что на севере он закрепился, получил кафедру, в почете и уважении. Что у них в Чухломе три вуза, филиал российской академии и вообще озера самые синие, зори самые тихие и грибы самые белые. Да еще минеральные источники нарзанистее и боржомистее кавказских. Академику патриотическая ирония Кости нравилась. Научный юмор совмещал с повседневным. Конечно, быть в числе первых на деревне почетно, но пусть задумается о Веточке. Поглядывая, как она барабанит, выбивая искры медными тарелками, убеждал, что Костина супруга не просто талантливый ученый, а космический пришелец из Вселенной. Кто б еще мог так оторваться, выплескивая брызги энергии. Костя, тоже любуясь Веточкой, говорил, что у них три театра, музей с народной утварью, картинная галерея и, вообще, есть Интернет. Поцелуйкин октавно похохатывал, по-свойски трепал Костю, убеждая, что театры, музеи, выставки в Чухломе на букву «г». Поправлялся: в сравнении с питерскими. Но главное все же не то. До Питера рукой подать. Все рядом – Додин и Мариинка, Русский и Эрмитаж… Суть – в общении. Даже не научном, а повседневном, сиюминутном. Не столько в обмене мыслями. Для этого хватает конференций, симпозиумов, коллоквиумов, куда всех по-соседски приглашаем.
Поцелуйкин, отрывая взгляд от Веточки, буравил им Константина, завораживая, как удав кролика. Костя знал чудачества патрона, когда тот выходил за академические рамки. Тогда он попадал в его объятия, крепкие, как у камчатского краба. Мысли Поцелуйкин излагал ясно, не сбиваясь ни на один градус. Не бубнил, не бормотал, а резал, как алмазом. «При общении, – шептал он как заговорщик, выпуская слова вместе с дыханием, – при общении мы трансформируем не сухую азбуку познания, а килокалории энергии, код и силу таланта личности. Мы воздействуем энергетическим гипнозом, наделяя партнера материей своей личности, отдавая потенцию творчества». Почти касаясь Кости выпуклыми губами, бормотал в виде заклинания: «Сейчас, в минуты тесного общения, ты, Костик, получаешь топливо для взлета на новую ступеньку истины. Моя энергия, минуя скучный разум, воздействует на поле подсознания, готовя почву для работы мысли. Кто в вашей Чухломе способен передать подобный концентрат энергии. Мерцающие светлячки из профессуры: Земницкий, Залепукин, Прокурин…»
Академик, разжав клешни, снова загляделся на эстраду. Любуясь барабанщицей, прочил: «Она, твоя Веточка, закиснет, у нее аккумулятор сядет». Опять взглянул на Костю, озадачив вопросом на засыпку: «Кто ее подзарядит? Кто передает энергию, без которой она усохнет, угаснет, потеряет краски. Сейчас она в цвету. Апофеоз. Не столько от удачи на защите, скорее от переизбытка чувств. (Пауза.) Бьет «тарелки» на осколки. Барабаны разносит. (Пауза.) Переезжайте в Питер. Все устроим. Ты же ей не враг».
Ночью в номере отеля Веточка и Костя долго не могли уснуть. Им было хорошо. Скорее всего, здесь у них образовался Степка. После всего Костя вдруг сказал, целуя ласково жену: «Академик все врет как сивый мерин». Она спросила: «Ты о чем?» Костя засмеялся.
Точно в срок родился Степка. Такой же шустрик, как мать. В полгода уже ползал в манеже, через месяц стал на колени. В коляске на улице не сидел, а рвался на волю. На ножках почти не держался и висел на Костиной руке. Вечерами долго засыпал, требуя родительского присутствия. Одной ручкой держал Веточку, а другой – отца.
Веточка, несмотря на домашние заботы, не теряла чувство юмора, обязательное при ее исследованиях, собиралась писать статью об особенностях младенческого возраста, используя наблюдения над Степкой. Чему улыбается, от чего хохочет, показывая почти пустые десны. Отрабатывала приемы и способы для развития чувства юмора у младенца. Уставая, иногда жалела, что решила изучение юмора и иронии сделать повседневной профессией, когда другим это только удовольствие. А ее временами от них воротит, и сатирики кажутся идиотами, обреченными шутить, когда им тошно.
Ясли и садики стали проблемой. Взять няньку не позволяла зарплата. Тогда на отпуск ничего не отложить. Горбачев своротил «железный занавес». Зарубежье стало реальностью, но в Венецию без денег не поедешь. А так хотелось повидать мир, а не только дешевенькие турецкие и египетские курорты. Степку на лето забрасывали к Веточкиным родителям в райцентр на клубнику и дышать хвойным озоном.
Жизнь опутывала повседневностью, бесконечной сетью будней. Ежедневно они читали лекции, вели семинары – творческие, интересные. Проводили симпозиумы, коллоквиумы, диспуты. Закопались с головой в компьютер. Костя готовил докторскую диссертацию, Веточка была на старте. Поцелуйкин не терпел застоя. Пристроив Степку друзьям, вырывались в театры или на концерты гастролеров. Кто к ним только ни заглядывал, покушаясь на их дырявые карманы: и Долина, и Моисеев, и Воробей… Как-то завернула «Табакерка» и театр Петра Фоменко.
Зимой, уже не каждое воскресенье, они ходили на лыжах втроем. Костя проделал в рюкзаке две дырки для Степкиных ножек и таскал того за спиной.
Иногда Костя уходил с сыном без Веточки. Та занималась уборкой, стиркой и готовкой еды на неделю. Она не то чтобы изменилась заметно, а убавила импульс свежести. Не закисла, а затуманилась. Реже заливалась смехом, феерически поблескивая зубками. Лишь по Костиной настойчивой просьбе пародировала тех, кто жил прошлым, и нынешних, что ему препятствовали. Как всегда, уморительно и точно.
Альбом для зарисовок не забросила, но бралась за карандаш лишь ради Степки, но звереныши получались кислые, будто переели клюквы. Шиповки она упрятала на антресоли, сказав Косте, что вышла из возраста и школьницам не хочет проигрывать. На стадион они ходили. Костя сидел со Степкой на трибуне, а Веточка, сменив шиповки на кроссовки, отмеряла круги. Скорость ее уже не привлекала. Веточка работала над выносливостью. Ее надо было повысить. Костя вспоминал мелькание ее ножек на стометровке, и ему делалось грустно. Что касается увлечения ударными, то оно отодвинулось в прошлое. Репетиции оркестрика и Веточкины семинары часто совпадали по времени. Иногда, под давлением Кости, она заглядывала на репетиции, усаживалась за ударные, вырываясь из рамок времени, отдаваясь прежнему азарту, выбивая душу из барабана, круша медные тарелки. Но надолго ее не хватало.
Стихи не шли. Написанное не нравилось, хотя Костя хвалил. Она его спрашивала, прочитав: «Меня ты видишь? Где «я»? Без меня это не стихи». Он говорил о роли вдохновения. Ждать, когда накатит. Она не могла, несмотря на зарок, удержаться от шутки, что она не Пушкин, а следующая осень через год.
Он все чаще вспоминал Поцелуйкина и его шаманское пророчество. Делал все, чтоб оно не сбылось. Они ездили по очереди в Питер и там культурно освежались, пробегая трусцой по Эрмитажу. Когда ездили вдвоем, ходили на модных режиссеров: Додина, Гиацинтова, Эренбурга… Тогда Веточка оживлялась, светилась, как покрасневшие ушки. Пропадала мелкая морщинка, засевшая над переносицей. Константин, используя свое положение, устраивал Веточке научные командировки, сговорившись предварительно с Поцелуйкиным. Пусть вещун придает заряд. Она возвращалась в настроении, переполненная новыми идеями, и дышала глубже. С удовольствием пародировала мэтра. Как могла, раскатывала губки, шепелявя его говорком: «Муженек прислал за волшебной водицей. Глотка хватит на денек-другой. Ко мне надо как следует приложиться, тогда будет какой надо толк». Посмеивалась: «Какой умник твой академик, такого наговорит, лучше б не слышать». На Костины вопросы – чего так? что такого? – отмахивалась, прикрывая чертики в глазах.
Как-то ночью, не вытерпев, шепнула Косте, что Поцелуйкин на полном серьезе сделал ей предложение перебраться в Питер и работать бок о бок, поставив мужа перед фактом. Пусть выбирает между женой и Чухломою. Косте оставалось обратить все в юмор, близкий ему профессионально, зная, что академик любитель подобных шуток, предлагая смазливеньким подопечным местечко при его кафедре. «Конечно, он шутит, – покорно соглашалась Веточка, – но так притягательно: Питер есть Питер. Одна ограда Летнего сада чего стоит. И вообще». И вздыхала «из глубины души». А Костя не спал до утренних сумерек, крепко задумавшись, как в Чухломе создать Веточке подобие Северной Пальмиры, предложив взамен решетки Летнего сада общение с харизматическими личностями, излучающими высоковольтное напряжение. Талантливыми, яркими, самобытными, не просто книжными эрудитами, а действующими вулканами творчества, как сам неугомонный академик и некоторые ученые его свиты.
IV
Явление Гиацинтова
В университете хватало профессуры – знатоков своей темы. Даже в чем-то оригиналов. К примеру, литератор Дядюшкин, погруженный в мистицизм Достоевского через призму его религиозности. Он являлся на занятие в рясе, облачаясь в нее на кафедре, осеняя себя серебряным крестом. На лекциях устраивал молебны, дополняя вокальными псалмами Аренского, Верстовского, Рахманинова… Студенты обращались к нему не по-светски, называя по имени-отчеству, а согласно облачению – «батюшка». Студентки безбожно кокетничали. Веточка над ним подтрунивала, величая не иначе как «отче».
У географов выделялся доцент Амвонников, собиратель старинной утвари и закопченных временем икон. Он светился изнутри лампадкой, сам похожий на парсунного старца. Его руки пахли ладаном, он их постоянно поглаживал, перебирая ласково пальцы. Был в ладу с домашними настойками, изготовленными по рецептам предков. Пригубив, являлся на лекции, которые вел в своем музее при университете, собранном лично в экспедициях по медвежьим уголкам края. Разговаривал с Веточкой, норовил ее потрогать желтоватыми пальцами, как ощупывал экспонаты прошлого.
Какая тут энергетическая подзарядка от таких ученых экземпляров. Одна ирония – не больше.
Космические пришельцы залетали в основном из столицы. Одни гастрольно, другие стационарно. Коктейль таланта, интеллекта, эмоций, приправленных зельем самомнения. Прибивались в основном в медицину и объекты культурного профиля. Медики много шутили, собирая профессиональный юмор в книжки, привлекая интерес пациентов к своим персонам и невеселой профессии.
Штабом незаурядной элиты служил буфет при ВТО. Там вечерами после спектаклей, концертов, телепередач собирались служители муз, и не только. Туда в холостяцкий период жизни нередко заглядывал Константин, неравнодушный к служительницам Терпсихоры.
Думая о жизненном тонусе Веточки, Костя, естественно, не мог не вспомнить о ВТО. Вспомнил и решил ее там представить местной богеме Чухломы. Многих она заочно знала, как говорится, из зрительного зала. А тут могла сблизиться непосредственно. Имелись там колоритные фигуры. Особенно новый главреж драмтеатра, известный новациями мастер, обладатель «Золотой маски», Гиацинтов Филипп Додонович. Окончил ГИТИС, работал в театре на Малой Бронной худруком. Но не сошелся со стариками модернистскими новациями, выставив актеров в классике с лоскутком на причинном месте, а то и полностью нагими. Стариков и тучных премьерш это не вдохновляло на творческие подвиги. Они не хотели светиться немощью, зато зритель был в восторге и валил толпой на спектакли, кайфуя от такого стриптиза. Даже великий философ Лир бродил по сцене, словно в сауне, прикрывал чресла ладошкой. Это смущало юную Корделию – тоже в натуральном виде.
Защищаясь от нападок, Гиацинтов публично доказывал, что лишь обнаженным Лир выглядит конкретно униженным, обездоленным и поруганным, подчеркивая низость дочерей.
Изгнанный малобронцами, Гиацинтов взялся за антрепризу. Скитался по России, удивляя свежим взглядом на классику. Почему-то его тянуло к Чехову, где несложная конструкция сюжета позволяла творить импровизацию. В «Трех сестрах» Соленый становился «голубым» и сожительствовал с Тузенбахом. А убил его не столько из ревности, сколько из желания сменить ориентацию. Сестры Ольга и Ирина от тоски и неустроенности жили в однополом браке. Ольга не могла скрыть радости, когда Соленый «убрал» Тузенбаха.
Для «Гамлета» Гиацинтов отыскивал новые краски. Принц Датский любил Офелию на рояле, наигрывая при этом ноктюрн Шопена, а Нимфа брала при этом «до» третьей октавы. Все это было ново и, по мнению продвинутых критиков, свежо и вполне оправданно.
Костя с Веточкой оказались в Питере, когда шла премьера спектакля Гиацинтова «Дурдом». Действие происходило в психушке, где как бы известный режиссер, оказавшийся там в качестве пациента, создает театральную студию и ставит «Братьев Карамазовых» Достоевского. Костя с Веточкой как психоаналитики увидели много интересного, не описанного ни в одном учебнике. Особенно запомнился сумасшедший, играющий Ивана Карамазова в сцене его помешательства. Вспоминая это после спектакля, хохотали как психи, привлекая на Невском внимание прохожих.
Вот этот новатор Гиацинтов приземлился в их Чухломе. Выглядел он богемно, не по-здешнему, перевитый трехцветным шарфом окраски российского флага. Туфли главреж носил остроносые, разбрасывая ступни в стороны, как обычно ходят балерины. Пальто было распахнуто, демонстрируя многоцветный свитер крупной вязки. Естественно, носил дымчатые очки. Выделялся, ко всему, седой прядью – не то крашеной, не то натуральной, закрученной волнистым локоном. Его постоянно сопровождала супруга, заслуженная артистка Раиса Худых, тощая, как жертва Бухенвальда, выпускница «Щуки», талантливая, но внешне никакая. Она играла в его «Дурдоме» Грушеньку, страдающую клаустрофобией, расталкивая окружающих, будто пыталась вырваться на волю.
Гиацинтов с супругой вечерами регулярно появлялся в ВТО. Там Костя и решил познакомить с ним Веточку, предварительно того об этом предупредив. Сам завязался с главрежем на собрании общественного совета при театре, где того представлял министр областной культуры. Рассказал о жене как завзятой театралке, расположенной к драматическим новациям и таланту Гиацинтова персонально. Приветствует обнаженную натуру, приближающую театр к жизни. Ей грезится пожать его творческую руку.
Сама Веточка иногда встречала режиссера на проспекте все еще имени великого мечтателя, обманувшего надежды человечества. Гиацинтов двигался походкой конькобежца, выбрасывая ноги в стороны, сцепив руки за спиной. А голову держал прямо, создавая живую карикатуру. Это так впечатлило Веточку, что она набросала шарж в альбом. Идя в ВТО, волновалась, не зная театральной богемы: сказывались провинциальные корни.
При знакомстве глаза Гиацинтова уперлись в Веточкины зрачки. А она заглянула в его, успев углядеть сокровенное, припрятанное бутафорным оформлением: свитером, шарфом, походкой и седым театральным локоном. На нее взглянул другой человек, под кого-то загримированный, чтобы спрятать себя от толпы и театральной челяди. Этот взгляд остался с ней, посеяв любопытство и желание новых встреч. Она успела его зафиксировать, оставив в тайнике подсознания, получив дозу радиации, схожей с излучением академика. Нить контакта возникла и осталась, разбудив импульс воображения. Константин уловил момент этой вспышки магния и невольно вздрогнул, хотя к этому вел. Предварительно общаясь с Гиацинтовым, на себе испытал силу его индукции, похожую на действие гипноза. Невидимой волной она проникала в психику, подавляя плотностью и напором.
Разговорились о психоанализе и его месте в творчестве, разумеется, и театральном. Коснулись постановки «Дурдома» и методов преодоления невротических комплексов через сценическое перевоплощение. Возможно ли вернуть душевнобольных в границы реального, погружая в образы разумных персонажей. Тут главреж азартно рассмеялся, возразив, что у Федора Михайловича разумных персонажей нет. Почти все невротики и психи, место для которых дурдом. Потому и взялся за «Карамазовых», поместив всех фигурантов куда надо. Веточка не соглашалась, заметив, какие все братья мыслящие, ищущие, растревоженные. Не какие-то обыватели-потребители, а живущие в душевных муках. Гиацинтов вспыхнул, как костер от бензина. Вся Россия была гнилым болотом, живописной ряской застоя, с редкими кочками разума. Тут и плавали бесчисленные жабы вроде Ивана, Димитрия, Смердякова, Базарова, Желябова, Ткачева, Ульянова. Мысли их распирали от безделья и гордыни тщеславия. Достоевский подался в их стаю и угодил на каторгу. При его повышенной впечатлительности все ужасы пропитали психику, и он расписал всю Россию красками собственной жути. А весь мир посчитал его глюки за характер нормальных россиян. Вот и пошли небылицы о загадочной русской душе. А душа-то была единственная – исковерканная ожиданием казни и острогом – гениального большелобого мученика.
«Такая прелюбопытная картина, – ухмылялся широким ртом Гиацинтов, – вот меня и сподвигло разыграть Карамазовых в психушке. Все у них человеческое, земное – от дьявола. Не о радости пекутся в жизни, а о вечной непорочной девственности. Такой чистой, как унитазы в Кремлевском Дворце съездов».
Веточка не столько слушала, сколько всматривалась в Гиацинтова. Особенно в игру глаз. Зрачок был плотным, но радужным, с переливом словно от внутренней подсветки. Они были гораздо импульсивней, чем мимика подведенного лица. Говорящий Гиацинтов притягивал, как электрическое поле пластмассовой палочки мелкие клочки бумажки. Это Веточка помнила с уроков физики в седьмом классе. Подносишь палочку, а клочки уже забеспокоились, скучились и рывком соскочили с места.
Нашли столик и уселись вчетвером: главреж, Раиса и Веточка с мужем. Шутили, болтали, взаимопривыкали. Веточка расхрабрилась и решилась, как умела, пообезьянничать. Гиацинтов ее впечатлил. Под прицел попали персонажи его спектакля «Дурдом». Все вышло так забавно, точно, но с фантазией. Гиацинтов был в восторге, а может быть, изображал. Какая разница. Главное, был расположен и отзывчив. Константин, любуясь оживлением Веточки, радовался перемене. Веточка шалила, как когда-то, без натяжки, с удовольствием. Филипп Додонович, рассыпаясь в комплиментах, сожалел, что Веточка ушла в науку, а не отдала талант театру, где б ее ждали заметные роли. Азартно убедил не без скрытой усмешки, что наука – это скука, повторенье одного и того же, где невозможно не прокиснуть. А театр – вечные перемены, обновления и встречи с гениальными собеседниками: Шекспиром, Островским, Мольером, Чеховым… С ними никогда не соскучишься, не закиснешь, не опустишься, особенно при таланте к лицедейству. При ее данных, Гиацинтов намекал на внешность, светили удивительные превращения в Офелию, Джульетту, Роксану, Нору, донью Анну, Нину Заречную, Элизу Дуллитл… Составил такой список заманчивых героинь, как опытный садовник букет даме сердца. Конечно, все это с юмором, вставляя реплики легендарных персоналий. Предложил бывать на своих репетициях, где обычно не терпел посторонних. Сейчас у него застольные репетиции «Дяди Вани». Веточка поделилась, что спектакль видела в БДТ. «Такая скука. Чуть не ушла». Гиацинтов оживился, завибрировал, даже подпрыгнул: «Гога тогда уже выдохся. Никакой фантазии. Кому нужна такая классика. Потому я и замахнулся. Так поставлю, что никто не вздремнет. Кашлять забудут и ронять номерки».
Веточка припомнила рецензии на его «Трех сестер» и, не сдержавшись, рассмеялась. Гиацинтов словно прочитал ее мысли и тоже хмыкнул: «Земля слухом полнится. Всколыхнул болото. Наступил на мозоль. Знаем мы этих охранителей устоев. Классика – это Библия, Евангелие, Коран, Тора. Да что они в ней понимают? Копаются, как в огороде, а копнуть в глубину боятся. Это такой материал, вечное топливо для полета в космос. А они им печки топят, чтоб погреть жопы. Я им покажу «Дядю Ваню», не меняя ни одного слова. А они попадают со стульев». Закончил спокойно, что ждать недолго – месяца три. Выплескивая эмоции, не спускал глаз с Веточки, фиксируя профессионально ее впечатление. Что-то его осенило. Подошел вплотную, уставился в глаза. Отметил: «А вы умеете слушать. Не притворно, с фальшивым вниманием, а отзывчиво. Этому долго учат. Общению на сцене. А у вас само по себе. Видно, наука помогает или с этим родились». Говорил одно, а уже думал о другом. Сказал самому себе: «Чем черт не шутит. Почему бы ей не сыграть в паре с моей обезьяной Елену Андреевну, молоденькую жену профессора в «Дяде Ване». Интуиция ему подсказывает, а она его лучший советчик, что могла бы получиться прекрасная Елена. Молоденькая, умненькая, с задатками лицедейства. А какая фигурка! Он мог бы репетировать с ней роль индивидуально, инкогнито от коллектива, а потом предъявить незадолго до генеральной. В том, что получится, он не сомневался. Дело за малым – согласием Веточки. Не раскрывая карт, тут же предложил принять участие в спектакле. В роли кого – определимся позже.
Предложение так ошеломило Веточку, что она почувствовала себя первоклассницей. Лепетала что-то несуразное, совершенно неадекватное ее положению и возрасту. Гиацинтов понимающе кивал, довольный, что ему не отказали. Волнение Веточки ему нравилось непосредственностью и яркостью выражения. «Волнуясь, она хорошеет», – отмечал профессионально Филипп Додонович.
Костя, видя состояние Веточки, воспринял предложение Гиацинтова как удачу и в знак благодарности пожал плотно руку.
На другой день Веточка потащила Костю в ВТО. Она вновь обрела летучую походку, резвость движений, подзабытый полет.
В ВТО вечерами играл небольшой оркестрик из музыкантов театра: саксофон, пианола, гитара и ударные. Веточка расхрабрилась, пошепталась по-свойски с оркестрантами и забралась на место ударника. Для начала врубили «Чучу» – старинную вечную мелодию, под которую пляшут даже покойники. Зальчик двинулся, шурша подошвами, покачиваясь, как при шторме. Задвигали руками, будто поршнями, заскрипели застывшими суставами, виляя бедрами, подталкивая друг друга. Веточка торопила саксофон, саксофонист подгонял ударные, пианист прибавлял азарта. А Веточка, ловко жонглируя кисточками и палочками, доводила танцующих до пота. Костя, радуясь за Веточку, барабанил руками и ногами, подпрыгивая вместе со стулом. Веточка, словно в годы студенчества, превратилась в шаловливого чертика, выбивая «тарелками» искры, а из барабанов пыль.
Гиацинтов, подобравшись к эстраде, вертелся механическим волчком, поднимая колени к плечам. При этом посылая приветы музыкантам и Веточке персонально. Все в зальчике тряслось и позванивало, а висячие лампы раскачивались, двигая круглые тени.
Когда оркестрик наконец умаялся, дружно ударили аплодисменты. Гиацинтов поцеловал Веточке руку, а Костя унес на руках к столику.
В первый же выходной Веточка нашла на антресолях изрядно пересохшие кроссовки, обработала над паром, восстанавливая эластичность кожи, и повела семью на стадион. Костя даже успел позабыть это сказочное явление быстрого бега. Правда, Веточка не рискнула бежать сотку, сделала полный круг. Четыреста метров тоже спринтерская дистанция. Скорость чуть ниже, чем на короткой прямой. Но зрелище куда заманчивее. На «сотке» колени мелькают, как поршни. А на круге бег похож на парение. Тут не семенят, как на восьмисотке или полуторке. Здесь над дорожкой виден полет. Веточка бежала в широкой размашке, как атлеты на древнегреческой амфоре. Вытягивая правую, не касалась дорожки левой. Это был не бег, а надземное скольжение – совершенно бесшумное, стремительное и планирующее. А лицо было спокойным, не скованным напряжением. Казалось, еще мгновение, и она полетит, особенно на виражах. Костя шалел от радости, будто бежал сам, подняв Степку на руки и повторяя: «Это наша мама. Это наша мама. Самая легкая, самая быстрая, самая удивительная». На прямой она прибавила шаг и вылетела за финиш метров на десять. Видно по привычке, крикнула: «Сколько?» Имея в виду время на круге. Тяжело дыша, но заметно довольная, даже малиновая от возбуждения, с каплями пота, застывшими росой. Махнула рукой с сожалением: «Зря не замерили. Поставила бы личный рекорд. Так в охотку давно не бежалось». Константин тут же вспомнил Гиацинтова, философию академика Поцелуйкина и подумал, что флюиды обогащающего общения дали необычно быстрые всходы.
V
Гиацинтов рыхлит почву
Гиацинтов, загоревшись Веточкиной харизмой, не оставил свои прожекты втуне, а тут же засучил рукава повыше. По разным, весьма существенным, причинам решили репетировать в университете под видом консультаций по психоанализу при создании сценических образов. Гиацинтов раскрыл карты, предложив роль Елены.
Начали с определения ее места в драматургии пьесы Чехова. Веточка еще студенткой видела этот спектакль дважды: у Товстоногова в БДТ и у Ефремова во МХАТе, где Елену играла любимая ею исполнительница Ассоли, Офелии, Гутиерры – несравненная Настя Вертинская. Разумеется, такое совпадение не придавало Веточке храбрости. Оба спектакля ее не впечатлили, но Вертинская сама по себе осталась лучиком в болоте чеховского резонерства. В чем причина, не могла осмыслить. Говорили очень правильные мысли, а было скучно и неинтересно. Она подробней поделилась с Гиацинтовым. Но новатор замахал руками.
Гиацинтов. Никаких кумиров: никто бы не играл после Остужева Отелло, а после Михаила Чехова Хлестакова, Настя как Настя. Бижутерия в этой роли. Ни тайны, ни загадки. Рвется из кожи, чтобы всем понравиться. Ей для этого и играть не надо. Возникла – все у ног. Образ – никчемная пустышка. Не по месту в пьесе, а по сути характера.
Веточка. У Елены образование, вкус. В ней нет пошлости и достаточно ума.
Гиацинтов. Чушь. Она – недоразвитый подросток, а не женщина. Ей уже 27, а она ни разу не увлеклась, не считая суррогатного чувства к мужу. В Петербурге, где прошло ее девичество, да и в Харькове, далеко не захолустье, за ней не числилось романов, если судить по тексту пьесы.
Веточка. О ее красоте все только и говорят.
Гиацинтов. О, этот хитрый, скрытный Чехов. Его с поверхности не возьмешь. Глядеть надо в контексте жизни. Что за фигуры Астров и Войницкий? Оба глубокие провинциалы. А провинцию Чехов не жаловал, наделял убожеством, тучностью и тоской. Там лучшие покрывались болотной ряской. Об этом постоянно твердил Астров. Женщины такие же скучные, пошлые, недалекие. В кого возвышенно влюбляться? А тут такой фарфоровый ангел спускается в их болото. Вот они и потекли. Растаяли, как лед у печки. Разнежились, хвосты распушили. А женщина-подросток испугалась. К чему ей адюльтер на сене в заброшенных, замызганных усадьбах? Да еще с клопами.
Веточка. Прямо уж клопы?
Гиацинтов. Не представляете, сколько этих тварей в заброшенных домах. Хозяева уезжают, а клопы усыпают и ждут, когда какой-нибудь спивающийся доктор устроит тут любовные игрища с какой-нибудь белотелой избранницей. Ей это было нужно? Чехов не любил грязи.
Веточка. А мне в спектаклях МХАТа и БДТ Астров понравился. Его играли Олег Борисов и Лавров. Правда, без длинных усов по Чехову.
Гиацинтов. Хоть как-то осовременили. В наше время буденновские усы – пошлость. (Пауза.) Боятся обидеть Антона. Даже такие зубры, как Ефремов и Товстоногов. (Пауза.) Становятся перед ним на колени и целуют руки. Так нельзя. Классики, как дамы, любят дерзких, нахальных. Читали, наверное, в газетах, как я поставил «Трех сестер» у малобронцев, где Тузенбах жил с Соленым.
Веточка. Слыхала. Зачем? Тузенбах такой милый, душевный.
Гиацинтов. А как вы, Веточка, думаете? Хватит от жизни прятать по-страусиному голову в песок. Я же не протоиерей Чаплин, чтоб предать «голубых» анафеме. Привлек внимание. Значит – попал в десятку. Полезно идти от обратного.
Веточка (с иронией). Опасно. Россияне – народ богобоязненный.
Гиацинтов. Скорее малоразвитый. Живут под суфлера. (Пауза.) На каждом углу восторги: Чехов, Чехов. Да, он великий микробиолог жизни. Рассматривал человечков под микроскопом и выписывал рецепты. Но если мужчин препарировал всесторонне, то женщин – без подробностей. Кроме одной-двух. Живые, в какой-то мере, Маша в «Трех сестрах» и, конечно, из плоти и крови Любовь Андреевна Раневская.
Веточка. Как говорится, круто. Так препарировать классика!
Гиацинтов (улыбаясь). Роль Раневской вам пока бы не доверил.
Веточка (кокетливо). Почему? Возрастом не вышла? Ей, по-моему, тридцать восемь.
Гиацинтов. Не это главное. Вы … Пожалуй, помолчу. Всему свое время. А вот с Леночкой мы, наверное, управимся. Хотя, если честно, не одной левой. Вокруг нее весь сыр-бор. Даже с провинциалами ей надо совладать. (Пауза.) За отсутствием на наших репетициях мужчин вам придется отбиваться от меня. (Смеется.) Поглядим, хватит ли характера. Я не какой-нибудь дядя Ваня! Не обойдемся, разумеется, без новаций. Надо как-то взбодрить классику, закрутить, пустить струю современного шарма.
Веточка. Елене тоже?
Гиацинтов. И ее не обидим. Хочу, чтобы зритель переосмыслил пьесу. Не говорил, глядя на афишу: «Опять этот «Дядя Ваня». Сколько можно, надоело». А молодежь, ваши студенты, скользнув глазами, проходили мимо. Хватит пичкать публику залежалыми консервами.
Веточка (сердясь). А верность традициям! Говорят, что это грязь жизни, превращенная гениями в алмазы.
Гиацинтов (посмеиваясь). Юпитер, вы сердитесь. Важная красочка для Елены. (Пауза.) Сам Чехов был против театральной рутины. Вспомните «Чайку» с пьеской Треплева. Чехов специально сочинял скучные диалоги моралистов, без блеска, остроумия, находчивости, провоцируя нас, режиссеров, на поиски сценических парадоксов. Помните, у Олега Астров поет, наигрывая на гитаре, чего у Чехова нет ни в тексте, ни в ремарках. Старые мхатовцы его засушили, превратив комедии в библейские псалмы.
VI
Погружение на глубину
Возвращаясь после репетиций, Веточка делилась с мужем впечатлениями. Они ее переполняли. Все заканчивались восклицательным знаком. «Какой Гиацинтов яркий, творческий, оригинальный, нестандартный, переполненный планами и фантазиями! Он все время в поиске новых форм и решений!» Одним словом, почти Мейерхольд. «Он не какой-то приземленный ремесленник, примостившийся в карете прошлого...» «В которой, – подключался Константин, – как сказал великий Грибоедов, далеко не уедешь». «Конечно, – хмурилась Веточка, подмечая в его словах иронию, – да он с Чеховым на «ты» и с Достоевским на «ты», а не шаркает перед ними ножкой. У театра свой сценический язык. Он не копирка даже самых гениальных авторов. Приходя на классику, наш зритель не должен дремать и покашливать, роняя номерки. Он должен оказаться как бы в трансформаторской будке под током высокого напряжения», – повторяла за Гиацинтовым Веточка. А Костя любовался ее горячностью.
«Филипп Додонович модернизирует и «Дядю Ваню», – рассказывала она мужу, – но что и как, пока держит в тайне, обещая сюрпризы».
Она думала о новых беседах и старательно зубрила текст.
Наблюдая нарастающую увлеченность Веточки на драматическом поприще, задумался о роли Гиацинтова-Пигмалиона. А задумавшись, не удержался и спровоцировал Веточку на разговор, напомнив мифическую историю с Галатеей. Спросил, улыбаясь: «А если?..» Она сразу не поняла, а поняв, ответила тоже вопросом: «Что если?» Костя замялся: «Я так. Не бери в голову». Но сам, того не желая, вызвал у жены внимание к вопросу. Она призадумалась и даже чему-то смутилась, взглянув на свои репетиции в каком-то ином свете. Ей нравился процесс работы, примерка на себя образа Елены, подтекст ее характера, поведения, выкройка Гиацинтовым стиля, манеры говорить и держаться. Выбор интонации, расстановка пауз. При этом совсем иначе, чем впечатлила ее мхатовская Елена. Но выслушав Константина, она вдруг задумалась о месте Гиацинтова в этом процессе. А подумав, к себе прислушалась, а прислушавшись, смутилась. Не хотела признаваться, но как ученый решилась на анализ и, недолго размышляя, достоверно убедилась, что не только работа с ее новизной и нюансами ей интересна, любопытен и заманчив сам куратор – в роли Пигмалиона. «Неужели я увлеклась, – подумала она с удивлением. – Только этого не хватало». А как же Костя, который на нее неровно дышит. Она этого не хотела. Что теперь делать? При случае сказала Косте, что если Гиацинтов и увлечен, то не ею, а процессом творчества. Он забывает обо всем на свете, погружаясь с головой в работу, препарируя каждую реплику, как анатом труп в прозекторской.
VII
Все дальше в лес…
Репетиции с каждым разом становились все интересней и предметней. Творчество требует искренности и откровений, как перед батюшкой на исповеди. Надо вывернуться наизнанку, снять свою и залезть в чужую шкуру. Даже в такую нежную и бархатную, как у Елены, но все-таки не свою.
«А впрочем, – сатанински улыбался Гиацинтов, как бы впадая в транс, – ваша – такая же удивительная и шелковистая, как замша, и белее соли «Экстра». Не зря же дядя Ваня теряет голову, ее лицезрея». При этом Гиацинтов хватал Веточку за руки и впивался в них цепкими, как присоски, губами.
«Дело происходит летом, Леночка будет в легком сарафане с обнаженными до плеч руками, и мы не ограничимся поцелуями ладоней, а позволим пройтись губами до верха, захлебываясь от желания. Не только Астров и дядя Ваня должны безумствовать от Елены Андреевны. В нее обязан влюбиться весь зал. Естественно – его сильная половина. Она должна свести с ума, покорить, зажечь, и не ангельским обликом херувима, а земною красотой тела».
При этом Гиацинтов закатывал зрачки, не помня себя и не видя Веточки.
«Мы, – продолжал он фантазировать, – пойдем в этом до конца, разрушая девственность тургеневских девушек. В пьесе есть для этого момент».
Тут Гиацинтов опускался на землю и переходил к сценической конкретике.
«Помните разговор Елены с Соней из второго акта?» Веточка кивала, околдованная режиссером. Тот излучал джоули энергии, заряженной высоковольтным током.
Беседа у них откровенная, доверительная. Они изливают друг другу душу. Короче, раскрывают подноготную. Они хотят быть как можно ближе, теснее, интимнее. Но что-то мешает, стесняет, сдавливает. Чехов дает нам в руки козыри. Подсказывает, намекает – просто приказывает. Лето, духота, собирается гроза. Она электризует, толкает на безумие. И они одновременно, в неосознанном порыве, как две ведьмочки, сливаются с природой, начинают судорожно срывать с себя одежду. От и до, благо ее немного, и остаются совершенно обнаженными, не смущаясь открывшейся наготы. Рассматривают друг друга, нежно трогают, безумно хохочут и пускаются в танец. Дикий, страстный танец вакханок, сорвавших с себя стеснительные оковы сдержанности, скромности, ложного стыда.
Гремит гром, полыхают молнии, а они под это буйство природы выплескивают зрителю свою вырвавшуюся наружу страсть, которой переполняются тела, созданные только и только для нее. «Вы, Веточка, можете такое представить?» – спрашивал, выпуская воздух, режиссер. Такое Веточка представить не могла. Оказаться в городе, где многие ее знают, обнаженной перед глазами зрителей, под светом софитов и огней ламп – такое в ее голове не укладывалось, не умещалось, не совмещалось с характером и воспитанием.
Увидев ее лицо, Гиацинтов расхохотался и стал отечески успокаивать, поглаживая, как обиженного ребенка. Он говорил, что она не первая, не вторая, не третья. Обнажаться на сцене – часть профессии. Что это не фотосессия, а оправданная мизансцена, раскрывающая зрителю не столько тело, а душу героини. Лишь тогда и публика осознает, что Елена теряет, избегая отдаться чувству. Эта сцена – его открытие, чего не было ни в одном театре, и он умоляет пойти ему навстречу. Такая сцена возможна только при вашем участии. Ее не будет, когда роль Елены сыграет моя благоверная обезьяна. Представляете ее в костюме Евы? Веточка представила и, забыв свой шок, стала смеяться почти как в истерике.
Отсмеявшись, утирая слезы, не без лукавства спросила, что бы сказал Чехов при таком стриптизе? Гиацинтов тут же ответил вопросом, о каком Чехове идет речь. О том, что скончался в девятьсот четвертом, или дожившем до наших дней? Наш спектакль увидит наш зритель, а не тот, для кого писалась пьеса. Современный Чехов нам бы аплодировал. Он, кстати, сам не жил как схимник, а был достаточно влюбчивым мужчиной, посещавшим даже дома терпимости. Путешествуя морем после Сахалина в Одессу, он на каком-то из попутных островов – не то на Филиппинах, не то на Яве, сошелся на природе с местной туземкой, в чем признался в письме приятелю. При этом гордился собственным «мальчиком», который не спасовал в тропических джунглях.
Веточка заалела красным галстуком, услышав подробность о чеховском «мальчике». Но Гиацинтов дружелюбно посмеивался, глядя на ее пурпурный румянец. «Деточка, – убеждал он, похохатывая, – Антон Павлович, как и Пушкин, лишь в творчестве изготовлял платонические пилюли, а по жизни с большим удовольствием грешил. Извините, не понимаю, зачем Антоша женился на этой немочке. Они практически не жили вместе. Он в Аутке, она при МХАТе. Краткие романы при его жизни. А он писал ей, называя Дусей». Конечно, Веточка кое о чем знала и тоже удивлялась женитьбе Антона Павловича. Но в двухтомнике чеховских писем о его «мальчике» она не читала и была как-то обескуражена. Гиацинтов, постреливая взглядом, утешал ее наивность, тактично напоминал, что Чехов не раз убеждал публику не учиться жизни по его книгам, а знакомиться с нею лично.
Веточка слушала и кивала, оставаясь под впечатлением сцены с Соней. Понимая ее состояние, Гиацинтов продолжал зомбировать, убеждая набраться смелости. «Деточка, – наступал он, как Мессинг, – разденется не Веточка Ласточкина, ученый, кандидат наук, а ее персонаж Елена Андреевна, рожденный фантазией Чехова. Любимов раздел булгаковскую Маргариту, правда со спины, сорок лет назад, и не кого-нибудь, а ведущую актрису Шацкую. Это был революционный прорыв – голая жопка не в фильме, а на сцене. Его в Кремль вызывали, чтоб прикрыл срам. А Юрочка устоял, пробил брешь. Не сразу, но за ним потянулись другие: Левушка в Питере, Эренбург, также и еще с десяток. Теперь без стриптиза спектакль не спектакль. Юличка Пересильд в Москве полспектакля обнаженная, изображая лунатичку. Никто не хихикает, не тычет пальцем и не крестится, как на ведьму».
Веточка, в который раз представив, что будет с Константином, покрылась пятнами. Честно призналась: «Страшно. Боюсь. Студенты увидят, ректор, преподаватели. Потом хоть беги».
Гиацинтов. Все не так страшно, как вы представляете. На улице ночь, горит лишь лампадка. Кто что увидит. Сполохи молний не дольше секунды, вспышка и снова полумрак. Пойди разбери где у вас что.
И демонически похохатывал. Наконец предложил промежуточный вариант. Репетируя, обнажаться не сразу, а поэтапно. Работать сначала в пляжном виде.
Веточка (удивленно). Здесь? В этой аудитории, где я читаю лекции? Филипп Додонович, ну вы и выдумали. Представляю себя со стороны. Один шаг до психушки.
Гиацинтов. Деточка, с вашим воображением место на сцене. Естественно, мы запремся. Кто вас увидит?!
Веточка. Подсознательный юмор, сатира и ирония в одном пакете. Использую на лекциях в качестве примера.
Гиацинтов (совершенно серьезно). Хорошо. Чтоб вам было проще, я тоже изображу пляжника. Буду за Соню. Станем вместе куролесить. Танец надо поставить, а не просто кувыркаться. Музычка уже готова. (Напевает мелодию в ритме вальса. Начинает выделывать фигуры и коленца.) Попробуем вместе. (Начинают сначала медленно, потом все быстрее танцевать.)
Веточка. Филипп Додонович, вы – сумасшедший.
Гиацинтов. А вы сомневались. Я – режиссер. Маг и волшебник. Деточка, проснитесь. Какая вы гибкая, ловкая, ритмическая. Зинаида Райх ничего этого не умела. Вы – подарок судьбы. С вами я поставлю русскую классику с ног на голову. Вам не надо учиться. Вы готовая актриса.
Веточка. Каблуки мешают. (Сбрасывает туфли.)
Гиацинтов. Долой свитер, все долой.
Веточка (в азарте). Была не была. (Сбрасывает свитер, кофточку и юбку, сорочку.)
Гиацинтов. Деточка, вы прелесть. (Сбрасывает роскошный свитер, туфли и джинсы. Они гасят свет. Танцуют быстро и ловко, не касаясь друг друга.) Ух! Что вы со мной делаете! Где мои двадцать лет?
Веточка. Разве вам больше?
Гиацинтов (поет). Где мои семнадцать лет? На Большом Каретном.
Веточка (подпевает). Где мои семнадцать лет? (Пляшут до изнеможения.)
Включают свет. Одеваются.
Гиацинтов. Чего боялись? Еще шаг, и вы в космосе. Константину, пожалуйста, ни слова. Он, не сомневаюсь, человек современный. Но мужья, как правило, старообрядцы. Не стоит его тревожить до премьеры.
VIII
Намек судьбы
Причину своего полустриптиза Веточка понять не могла. Что на нее накатило, лишило обычной сдержанности и скромности, было необъяснимо. В сверхъестественное, как ученый, она не верила, в минутное помешательство тоже. С научных позиций оставалось единственное – гипноз. Она, как и Костя, им владела. Она меньше, он эффективнее. Но тут она не заметила никаких предпосылок. Гиацинтов на гипноз не намекал. Неужели он обладал таким творческим потенциалом, что мог воздействовать на подсознание, вопреки желанию толкнуть на стриптиз. О подобной индукции она читала. Экстрасенсы умели сбивать с мысли, внушая свои собственные, о чем писали великие шахматисты и известные актеры. Значит, Филипп Додонович силой творческой энергии мог управлять ее сознанием и душой, приводя в любое состояние, необходимое по роли. Талантливая, чувствительная от природы, она легко поддавалась чужим эмоциям не только сознанием, но и клетками нервов. «Значит, – говорила она себе, – он проникает в мою подкорку и может делать со мной что захочет. Даже преодолевать природную стыдливость, заменяя невозможное возможным».
Возвращаясь с репетиций, а они проходили три раза в неделю, она, готовя ужин, негромко напевала: «И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь…» Константин с удовольствием присоединялся: «...и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь…» Степка, подпрыгивая рядом, попискивал: «Открылись, открылись… Хочу писать».
Веточка все чаще и подробней говорила о Гиацинтове, обсуждая с разных сторон: «По виду – никакой не красавец. Ни тебе Станиславский, ни молодые Любимов, Владимиров, Завадский. Ростик – метр с кепкой, на макушке лысоват, губаст, уши парусами… Но энергии… К нему можно прикрепить табличку: «Близко не подходить. Опасно для жизни». И череп с костями изобразить». Константин тут же, блистая эрудицией, иллюстрировал наблюдение Веточки примерами из истории, перечисляя великих коротышек, исключая классиков марксизма. Тут были и Суворов с Наполеоном, Пушкин с Лермонтовым, Лев Толстой, Чарли Чаплин, художник Репин, Володя Высоцкий – и так далее – бессчетно. Веточка, чувствуя его иронию, улыбаясь, отмахивалась: «Хватит. Достаточно. Да, наш Гиацинтов почти в них. Он, пожалуй, ставит зрелищней Ефремова – красками и фантазией воплощения». «Естественно, разумеется, – без улыбки соглашался Костя, – голых жопок Ефремов не выставлял». Тут они начали до хрипоты спорить, забыв снять с горшочка Степку. А тот вопил: «Я покакал. Вы совсем забыли ребенка».
Константин любовался полемическим румянцем Веточки и был счастлив ее пробуждению. Веточка чувствовала его восторги и слегка краснела от понятного ей смущения. Увидел бы муж краем глаза, как она репетирует сцену с Соней – Гиацинтовым. Что скажет после премьеры?
Предвосхищая нежелательный поворот событий, подключив весь спектр психоанализа, решила рассказать Косте о возможном исполнении главной роли – Елены Андреевны Серебряковой. Услышав такую новость, Костя сначала опешил, не поверив: «Ты шутишь! Так вот сразу. Из зрительного зала в героини. Эту роль играли Комиссаржевская, Андреева. Наконец, Вертинская…» Но закончил с пафосом: «Я тобой горжусь! Ну и Гиацинтов. Настоящий новатор. Боже, какая ответственность. Какая честь. Моя Веточка – сама Елена Прекрасная». Однако Веточка не решилась до конца раскрыть карты. Пусть сначала увидит, а там посмотрим. Он же не какой-то старорежимный Каренин или учитель Беликов! Тем более, говорить пока рано, чтоб не сглазить. Кто знает, чем все обернется. Филипп Додонович большой выдумщик. Такое может закрутить, что чертям мало не покажется.
Вспоминая сцену с Соней, она все больше сомневалась, не находя себе места. Пляска «Евы» ее смущала, несмотря на фокусы со светом. Она стала подозревать себя в запретном, опасном для нее и Кости. Муж не заслужил такого. Он хочет видеть ее в порядке, какой ему понравилась. А тут такой оборот. Что теперь делать? Зная свой мягкий характер, она не могла себе представить, как подействовать на Гиацинтова, чтобы тот ограничился пляской без стриптиза. Какой он в творчестве деспот, уже слыхала от многих и успела испытать на себе. Хотя с ней он держался корректно, не давил, не брызгал слюною, что позволял себе с другими. Отказаться от репетиций, позабыть дорогую для нее Елену. Задраить наглухо все окна и двери, закопавшись в завалах науки. Погасить огонек, только-только набирающий силу. Уйти от себя в темноту. Как разрешить проблему, не теряя Филиппа. Она впервые подумала о нем без отчества, немного похожего на псевдоним. Но те, кто знал его поближе, утверждали, что отчество по отцу. Жил-был такой Додон. Случаются же прародители-шутники, особенно с корнями славянофильства. Как не обидеть Константина, поставив в неловкое положение. Будь Костя тоже из театральной богемы, он легче бы вошел в ситуацию. Она вспомнила оперетту «Сильва» и не удержалась от улыбки. Каково было князю Воляпюку, да еще в блестящем исполнении любимца публики комика Эстрина, узнать, что его супруга-княгиня в прошлом шансоньетка Соловей. Ситуация во всем сопоставима – жена доцента, завкафедрой, сама ученая со степенью, отплясывает принародно голышом.
Она понимала, что какие-то новаторские решения Гиацинтов связывает с ней и этого не скрывает. Его творческий запал стал ей дорог. Она впервые увидела это не из зала, а столкнувшись лицом к лицу. Ее пустили к живому костру, а не к свету через стекло. Она согрелась и оттаяла, услышала весеннюю капель, увидела угольник журавлей в просвете облаков.
Она давно не писала стихов. Забыла, откуда их ждать. Вдруг они стали подавать знаки. Как птенцы долбят яйцо изнутри. Уловила эти позывные и бросилась к белому листу бумаги. Появились строчки:
Бегу по лестнице, спасаясь от молвы.
Глядите вслед? А я почти ослепла.
Вот обернусь…
Дымится кучка пепла,
Где пять секунд назад стояли вы…
Молвы еще не было. Предчувствие ее опережало, как намек судьбы. Гиацинтов не курил, но так сложились строчки. Иначе быть не могло, и она поверила. Строчки ей стали сниться и даже укладываться в строфы. Они не отражали реальность, как камера фотоаппарата, возникали фантазиями, как колос пшеницы из зернышка, букетная роза из черенка. Стихи выражали что-то скрытое, приглушенное, неосознанное, чего она в себе не знала, но смутно догадывалась, явились они во снах. Сны не подчинялись ее воле, желанию увидеть то, что хочется, они рождались, как клочья облака над морем, из ясного голубого свода. Такое она как-то наблюдала в Крыму на Кара-Даге, где отдыхала с Константином.
Стихи появились как предчувствие, помимо осознанного желания, из туманной дали ожидания, неясного, но желаемого. Сначала наступила тишина, уход от всего конкретного, приземленного. Потом подступила тревога, как перед встречей с незнакомым, но очень важным, необходимым. Это было в ней спрятано и явилось помимо воли из расплавленных боли и радости, но чаще всего из печали несбывшегося. Ничего общего с ее научными размышлениями и поисками. Слова лишь пропечатывались мозгом, как пишущей машинкой или телеграфом. Но складываясь в тайниках душевной магмы, на выходе превращаясь в строфы. Видя их на бумаге, она им всегда удивлялась, рассматривала, удерживая дыхание, и, чуть шевеля губами, озвучивала, как бы знакомясь, радуясь их реальности. Знакомила себя с ними, говоря, поглядывая на строчки: «Это я».
Вы курите – большой и робкий у окна.
Нет ни малейшего оттенка страсти.
Одно небрежно кинутое «здрасте»
Жжет, как глоток горячего вина.
(…)
Белесым глазом пялится окно,
Раздетое весной, на птичьи игры.
И я перегорю. Простите. Стыдно.
Не стыдно, нет. Смешно.
Смешно.
Смешно.
Она стала рассеянной, отвечала мужу невпопад, но тут же говорила: «Прости. Мысли всякие лезут». Костя успокаивал и сердился, что слишком налегает на науку. К чему такая гонка? Статьей меньше, статьей больше. Доцентство не убежит. Осмыслит беседы с Гиацинтовым и разразится докладом на симпозиуме у Поцелуйкина. Пусть видят, что ты в форме. Она охотно соглашалась, что слишком ушла в работу и меньше думает о семье.
Как-то невзначай спросила мужа: «Что будем делать, если я влюблюсь?» Он на секунду задумался, но все обернул в шутку: «Что, что! Вопрос гипотетический. Сначала влюбись, а там будем думать». Она тоже засмеялась: «Проведем научный эксперимент. А все-таки?» Константин, наморщив лоб, ответил вопросом: «С чего бы? С позиции психоанализа для этого требуется повод. Несовпадение характеров…» Веточка иронично закивала: «Он молчун, она болтушка; он храпун – она как мышка; он ходок – она несушка». Костя охотно включился в игру, приводя другие примеры несостыковок.
Между ними ничего такого не было. Полная гармония и лад. Иногда Веточка на него покрикивала, но без пафоса и ноток металла. Он, случалось, петушился, но не срывался на крик. К ним вполне подходила песенка из «Ярмарки тщеславия» Теккерея: «Голубок и горлица никогда не ссорятся – мирно живут».
Но Веточка в итоге шуточной разборки уже без иронии спросила: «Разве без этого не увлекаются? Когда нет заметной причины и повода?» Костя, уловив перемену в интонации, сказал, тряхнув эрудицией, что, насколько он помнит авторитетных авторов классического ряда литературы, в основе охлаждения лежат существенные причины, как то: брак без любви, заметная возрастная разница, порочность одного из супругов, измена, пьянство, грубость, жадность… Веточка, загибая пальчики, лукаво вставила: «Большие развесистые уши». Костя, понимая, о ком речь, не споря, согласился: «Да, и большие, вызывающие неприязнь уши, как у господина Каренина». Она, не меняя тона, заметила: «Которые при венчании для Анны были маленькими, а за время брака вдруг, как у царя Мидаса, выросли и опротивели». Но Костя счел такой аргумент некорректным, уловив смысл Веточкиной реплики. В глазах Анны они выросли до, а не после увлечения Вронским. Роль сыграла разница в возрасте и характер, пусть умного и порядочного, но занудного супруга. А разве я такой? – улыбался краснолицый Константин.
Но Веточка упрямилась и настаивала, чтоб Костя выискал пример безоблачного брака, который бы омрачился разладом «как громом с ясного неба», – уточняла Веточка. Костя мысленно перелистывал в памяти повести и романы корифеев, но выискать «гром среди ясного неба» не получалось. «Этого быть не может», – сердилась на него она, стараясь не думать о себе. «Лучше, чем ты, для меня нет, – кокетливо убеждала Константина, – но вдруг этот чертов гром грянет. Вот что ты станешь делать?» «Должна, должна быть причинно-следственная связь, – повторял, как на лекции, Костя, – влюбленные на других не смотрят». «А если да, – капризничала Веточка, – не хотят, а само собой выходит». «Тогда, – отшучивался Константин, – есть два варианта: или в монастырь, или рубить от соблазна пальцы». «Неужели других нет?» – настаивала она, прищурив проницательные глазки. В шутку грозно насупив брови, Константин утвердительно ответил, что имеется. После паузы произнес грозно: «Придется вызвать громовержца на дуэль». Веточка, тут же представив себе дуэль между доцентом и главрежем, правда, непонятно на каком оружии, безоблачно засмеялась, Костя ее нежно приобнял. Разговор как разговор: ироничный, шутливый, лукавый. Шевельнул воздух и пропал, не оставив никаких заметных отпечатков. Чего вспоминать?
IХ
Терзания до растерзания
Премьера неотвратимо приближалась. Веточка летела на репетиции, не замечая прохожих, погружаясь в мир фантазий. «Ты не Веточка, ты Елена, – убеждал ее внутренний голос, – ее проблемы – твои проблемы».
А на белом листе бумаги появлялись новые строки:
Любовь состоит в равновесье
Законов физики, правда!
Законов природы тоже.
И только тогда,
без сомненья
и без исключенья,
если
прекраснодушье одного человека
Равновелико печалям другого,
любовь состоится…
(…)
…жаль, о законах любви
Человечьей
До сих пор ничего неизвестно!
Продолжая работу над ролью, повторяли танец Елены и Сони. Усложняли позы, движения, накал экстаза. Открывая окончательно тайны тела, по просьбе Веточки выключали свет. Это не противоречило режиссерской задумке, поэтому Гиацинтов не стал спорить. Он лишь использовал фонарик, заменяющий вспышки молнии, и ставил вальс из балета «Спящая красавица».
Гиацинтов следил за каждым ее движением, но словно не замечал ее тела, погруженный в экстаз творческого парения. С одной стороны, это Веточку устраивало, окончательно снимая неловкость, но с другой, в то же время теперь задевало. Неужели он напрочь не видит в ней женщины, а лишь кусок воска или глины, из которого лепил Елену.
Сам он больше не раздевался, а лишь сбрасывал толстой вязки свитер. Как ученый, она знала рассуждения Фрейда о типах мужской сексуальности в контексте творчества. Неужели Гиацинтов, как великий Леонардо, подавив свою чувственную тягу к женщинам, перевел ее на профессиональные рельсы, зону творчества, игру фантазии. Развил интеллект настолько прицельно, что сублимировал эротическое удовольствие в творческую радость. Теоретически Веточка это принимала, но не верила, что такое реально. Она просматривала гламурные журналы и знала нравы художественной богемы. Встретиться с сублимированным режиссером наяву было как ученой любопытно, но как женщине до конца не понятно. Странно и даже обидно! При всей скромности она чувствовала себя женщиной, находя подтверждение в мужском, пусть визуальном, но внимании. Старалась не встречаться взглядом, соблюдая нужную дистанцию. Она не могла пока определиться: радоваться или чувствовать себя обманутой в предчувствиях. Увлечение ею Гиацинтовым ставило бы в положение Елены Андреевны, помогая войти в образ. Подобрать нужный ключик.
Мужское безразличие Гиацинтова заставило о нем все больше думать, вспоминая известную насмешку Пушкина об отношениях мужчин к женщинам: чем меньше женщину мы любим… Повторяла стихи Цветаевой… Выбирала близкие своему состоянию строчки: «Спасибо вам… за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами. За то, что вы больны – увы! – не мной...» Но чужие, даже чудесные строки не согревали, как живое тепло. К ней приходили свои, созвучные по точности цветаевским.
…Прорастет тоска голубыми
Тайниками глаз февраля.
Неужели вы не любили
Женщину по имени Я?
Или:
Разве вам хотелось иначе?
Почему, тоски не тая,
У слепого зеркала плачет
Женщина по имени Я?..
Константин, читая эти строки, видел Веточку будто заново. Одобрительно кивая, удивлялся: «Растешь, растешь, девочка. А где твои птички на ветках, серебряные нити паутины, хрустальные перезвоны капели?» Веточка, скромно улыбаясь, шутила: «Снегурочка была и растаяла».
Репетируя первую сцену с Астровым, она, вспомнив разговор с мужем, спросила Гиацинтова, можно ли разлюбить хорошего человека без всякой на то причины. И перечислила все поводы, что называли с Костей. Гиацинтов, сложив творческие крылья вдохновенья, глянул на нее как на не совсем нормальную. Собирался с мыслями, не зная, как сказать помягче. Но все же, не сдержавшись, чертыхнулся.
Гиацинтов. Отношу ваш вопрос к остроумию бессознательного. Задай его вам студенты, что бы вы ответили?
Веточка (с улыбкой). Студентам? Как Лев Толстой одной женщине: не поддаться чувству, не искушать судьбу, как бы чего не вышло. (Пауза.) Если честно, не знаю. Чехов сбил с толку своей Еленой.
Гиацинтов. Не только вас. Многих режиссеров.
Веточка. Профессора жаль. Он такой беспомощный, живет на лекарствах харьковских, московских, тульских. Надо иметь совесть. (Пауза.) В других пьесах Чехова у его героев есть повод, так сказать, смягчающие обстоятельства. Тригорину приелась кривляка Аркадина, Машу в «Трех сестрах» достал пошляк муж, Вершинина – истеричка жена… Разве нельзя обойтись без этого, чтоб совесть не мучила и сердце не рвалось?
Гиацинтов. Совесть совестью, а любовь – другая ягодка. Сердцу, как говорится, не прикажешь, в чулан не запрешь.
Веточка. Даже реалист Толстой шаржировал Каренина, оставив тайным советником в семейных отношениях. А романтическую Анечку уложил на рельсы.
Гиацинтов. Сейчас время не то и мы не те.
Веточка. Елена Андреевна какая-то великомученица. Детей нет, возраст в расцвете. А она куксится. Не решается переступить. Хотя профессора не любила и не любит.
Гиацинтов (посмеиваясь). Деточка, прекрасно, если вы с этим не согласны. Я тоже. Мы – единомышленники. Рискнем – и все поправим. Олежка начал, дав роль Серебрякова Владлену Давыдову.
Веточка. Какой Олежка, какому Владлену?
Гиацинтов (смеется). Это я по-свойски. Ефремов – Владлену Давыдову – советскому коменданту из «Встречи на Эльбе» – красавцу мужчине даже в преклонном возрасте.
Веточка. Во МХАТе играл Евстигнеев.
Гиацинтов. Из профессора сделал клоуна. У всех Серебряков – чучело огородное. Зритель дружно сочувствует Елене. Такая куколка, а жизнь загубила. Просто рекламный агитатор: девочки, не будьте дурами. Не венчайтесь со стариками. Картина Федотова «Сватовство майора».
Веточка. Для чего так? А если случается по-другому. Ей с одним хорошо: надежно, спокойно, а почему-то потянуло к другому.
Гиацинтов. Глазки забегали. Солнышко взошло.
Веточка. Что делать?
Гиацинтов. В монастырь или отрубить пальчик. (Берет ее руку и целует пальцы.)
Веточка. Вы что – сговорились?
Гиацинтов. О чем вы? (Пауза.) Радоваться надо новому солнышку. Чехов всем советовал почаще влюбляться. Как доктор, он считал это лучшим лекарством. Чудодейственным бальзамом.
Веточка (иронично). Принимать столовой ложкой три раза в день. (Пауза.) Вам, мужикам, хорошо. Для вас каждый уличный фонарь – очередное солнышко. А нам, девочкам, под солнышком можно перегреться, даже сгореть.
Гиацинтов (смеется). Кожа не пальчик: облезет – восстановится, такая же шелковая, как у вас. (Целует ей руки, шею.)
Веточка (от неожиданности). Что вы делаете? Вы с ума сошли. Разговоры разговорами…
Гиацинтов (играя). Вы застенчивы. Какая прелесть. Вот уже больше месяца репетируем, репетируем. Я забросил жену, бегу к вам, жду встреч. Выкладываюсь для одной больше, чем с остальными.
Веточка. Фу, какой неприятный разговор.
Гиацинтов (играя). Позвольте, не делайте удивленного лица. Вы отлично знаете, почему я пошел на эти репетиции, почему хочу видеть вас в спектакле. И это вам ужасно нравится, ужасно…
Веточка (удивленно). Что вы говорите? Что? Это же реплики Астрова с Еленой. Какой же вы хитрец.
Гиацинтов (смеется). С вами, деточка, иначе нельзя. Надо хитрить, чтобы втиснуть в роль. Как у вас хорошо получилось: «Вы с ума сошли». Запомните состояние, донесите до сцены. Неужели вы такая недотрога по жизни? У вас мысли Елены, сомнения Елены.
Веточка (от смущенья, по роли). О, я лучше, чем вы думаете! Клянусь вам.
Гиацинтов. Лучше не бывает. Вы в роли как в жизни. Без капли лицедейства. Но я вас понимаю. Ваш муж – достойный муж.
Веточка. Конечно. Завкафедрой, доцент. Докторская на мази. Имеет 17 публикаций. О нем, правда, не пишут в центральной прессе. Но в своих кругах он авторитет. Академик Поцелуйкин с ним на «ты».
Гиацинтов. Кто спорит! Все, как вы говорите. Буква в букву. А как насчет этого? Дамы не охмуряют?
Веточка. А разве заметно? Подъезжают, особенно ассистентки и аспирантки – нахалки. (Пауза.) А все же приятно, когда на мужа пялятся.
Гиацинтов. Можно гордиться. Лучше, чем пень пнем. Как бы дамы его не избаловали. Есть примеры. Он так много работает, пишет, читает. Так недолго надорвать здоровье. Станет охать, жаловаться, ездить по курортам. Испортит зрение, вы станете начитывать ему лекции, научную литературу.
Веточка (горячо). Ну и что. Буду. Делать ему ванночки, натирать спину, мерить давление, укрывать пледом.
Гиацинтов (почти серьезно). И думать про себя, когда же черт возьмет тебя…
Веточка. Ерунда. Вот увидите (внимательно смотрит на Гиацинтова). Послушайте. Вы о каком муже говорите? (Бросается на Гиацинтова с кулачками.) Довольны, поймали.
Гиацинтов (обнимает ее, утешает, гладит, целует волосы). Открою только вам секрет. Обычно я играю редко. Трудно совмещать. Но тут не удержусь. Супруга будет в паре с Капусткиным, а я с вами. Как Олежка и Мирошниченко. У нас будет интересней, без актерства и соплей. Просто, честно, по-современному.
Веточка. Вы серьезно? К вам я уже привыкла, а с другим умерла бы от страха. Стала бы деревянной.
Гиацинтов. За мужа не беспокойтесь.
Веточка (недоверчиво). За какого?
Гиацинтов (смеется). Герра профессора. Он у нас такой, как вы описали. Моложавый, с юмором, ироническим обаянием. Ворчит, не ноя, а разыгрывая больного. Ему больно, но он держится. Шутит, напевает, показывает фокусы, даже кружится в вальсе с маман и Соней. Он умный, талантливый, какая это старость по нашему времени. Какие-то 55-57 лет. Возраст зрелости, лихих романов. У нас детей мужики делают, причем полноценных, когда им за семьдесят. Жизнь раздвинула рамки. Вы, как мне рассказали, любите мужа как состоявшегося ученого. А дядя Ваня клянет его из ревности и собственной никчемности. Знакомая картина. Ваш муж известен, талантлив и популярен пусть не по всей России, но в губернском городе. Известных по России было всего-то с полтора десятка, и дядя Ваня хотел видеть в профессоре Погодина или Суворина. Куда махнул. Сам Чехов почти до конца жизни был вровень с Потапенко и ему подобными. А Серебряков тоже печатался и писал книги.
Веточка. Пожалуй, вы правы. Конечно, правы.
Гиацинтов. Вот и весь ответ на ваш вопрос. Вы в ладах с супругом. Он заметная личность. Красавец, умница. А вас потянуло к другому. Вам непросто. Но вы живы. Закон природы.
Веточка. Но я не хочу его обижать!
Гиацинтов (скрывая улыбку). Уточните, кого!
Веточка. Ни того, ни другого.
Гиацинтов. Зачем признаетесь, что профессора не любили? Влюбились, еще как влюбились, как девочка, без задних мыслей. Расширили глазки на такое светило, харьковскую знаменитость, властителя дум. Женщины замарашек не любят, присыпанных мелом и старческой перхотью. Значит, был опрятен, по моде одет, в хороших штиблетах, белоснежной сорочке с золотыми запонками и перстнем на безымянном пальце. Впрочем, таким он будет в нашем с вами спектакле. Не в неглиже и шлепанцах, а при всем параде и вдобавок с тростью: как-никак – подагра.
Веточка. Откуда вы все это взяли? У Чехова нет ремарок.
Гиацинтов. Все есть. Читайте между строк. Дядя Ваня не какой-то Вафля, а помните признание Астрову. (Играет.) «Я обожал этого профессора, я гордился им и его наукой, я жил, я дышал им. Все, что он писал и изрекал, казалось мне гениальным»… А мать его, маман, Мария Васильевна, до сих пор без ума. Она не какая-то Феклуша или барыня на вате, а вдова тайного советника. Войницкий – с университетским дипломом, она – все еще много читает (изображает за дядю Ваню): «Одним глазом смотрит в могилу, а другим ищет в своих умных книжках зарю новой жизни». Не Чарскую читает или Блаватскую, а умные книжки (снова изображает Войницкого)… А профессор по-прежнему от утра до глубокой ночи сидит у себя в кабинете и пишет… Вечно жалуется на свое несчастье, хотя в сущности сам необыкновенно счастлив… (Пауза.) Слышите, деточка, необыкновенно счастлив.
Веточка (смущенно). Может быть, я его и люблю, но не так, а как-то по-детски.
Гиацинтов (порывисто). Бред. Ты думала в двадцать лет любить, как тертая баба? У возвышенных барышень так не бывает. (Успокаивается.) Тем более, как я понимаю, он был у тебя первым.
Веточка (смущенная его напором). Что плохого? Несовременно?
Гиацинтов. Можете не мучиться, ваш супруг в порядке. (Играя дядю Ваню.) Ни один Дон Жуан не знал такого полного успеха у женщин.
Веточка. До меня может быть. А вообще, он – однолюб. (Пауза.) Опять вы за свое. Надо предупреждать. (Смеется.)
Гиацинтов. Сам временами не знаю, кто я. Помните, у Сатина: Магомет, Наполеон… Надо вживаться. Уходить от себя, но не очень далеко. Даже вам.
Веточка. Уже путаюсь, где она, где я!
Гиацинтов. Да не думайте вы о нем. У нас он будет таким, как я говорил. (Резко преображается, меняет походку, выражение лица, подправляет прическу Елене. Репликой Войницкого.) Будет у вас счастье на этом свете. Забудьте о нем. Какое самомнение, какие претензии. Говорили, что состарился, а смотрите – шагает как полубог. (Изображает Серебрякова.)
Веточка. Правда. Все примелькалось. Как-то не замечала.
Гиацинтов. Он жил в полную силу. Широко, свободно. Его первая жена Елена, прекрасное кроткое создание, чистая, как вот это голубое небо, имевшая поклонников больше, чем он учеников, – любила его так, как могут любить одни только чистые ангелы, таких же чистых и прекрасных, как они сами.
Веточка. Как я раньше не замечала. Это все о нем.
Гиацинтов. Что же вас останавливает? Живите открыто, свободно, как он. Человек создан для счастья, а женщина – в первую очередь. Особенно прекрасная, талантливая, как вы.
Веточка. Кто вам сказал, что мне плохо. У меня семья, любимая работа, достойный муж.
Гиацинтов (играя Войницкого). Изменять мужу, к которому остыла, – это безнравственно. Стараться заглушить в себе живое новое чувство, интерес к себе, жизни – это, по-вашему, не безнравственно?
Веточка. А верность, чистота, способность быть опорой другому?
Гиацинтов. Деточка, природа требует своего. Как деревце свои листы меняет раннею весною – Пушкин. А лучше не скажешь.
Веточка. Во всех мужиках сидит бес разрушения. Почему вы не можете видеть равнодушно женщину, если она не ваша? Вам не жаль ни лесов, ни женщин, ни друг друга!
Гиацинтов (аплодирует). Слились, слились. Опять же вижу щелочки просвета между вами и Еленой. Забудем на мгновение о работе. Скажу от себя: глупо думать о верности другому, забывая о верности себе. Особенно, если речь идет о счастье для того, к кому вас тянет.
Веточка. А если это не любовь, не привязанность, а лишь постель? Безумная страсть. Говорят, быстро проходит. Что потом? Хорошо бы узнать сначала человека. Заглянуть в его душу.
Гиацинтов (гладит ей волосы, обнимает). Деточка, а вы наивная. Все проходит. Ковать надо, пока горячо. Пока будете пробираться в душу, ожог желания обратится в пепел. Вы упустите дрожь в коленях, чувство невесомости, ужас падения в пропасть.
Веточка. Падение в пропасть. Легко сказать!
Гиацинтов. Другого рая на земле не бывает. Доверьтесь человеку и с головою в омут.
Веточка. А стыд! Я, представьте, застенчива, скромна, трусовата. Я – курица. Нудное, эпизодическое лицо.
Гиацинтов. Это вы-то! От вас все мужики – в нокауте. На вас вся пьеса держится. На красоте. В этом ее пружинка. Хватит потакать Елене. Она дурит, а вы за ней. Еще повторите: «Нет мне счастья на этом свете».
Веточка. У Чехова – так.
Гиацинтов. У нас будет иначе, современно. Мы пойдем дальше. Пока намекну без подробностей. На сцене появится край беседки, которой нет в ремарках. Там произойдет нечто.
Веточка. Опять интригуете.
Гиацинтов. В искусстве нельзя без этого. Нужен удар, потрясение до пяток! Думайте, гадайте. Если Магомет не идет к горе, гора пойдет к Магомету. Готовьтесь, готовьтесь, деточка, – кульминация впереди. Мы переломим серую судьбу и откроем путь радости. (Пауза.) Все мне в этой пьесе понятно. С моей точки зрения. Каждая реплика, пласт подтекста. Одно не укладывается, не находит объяснения.
Веточка. С Астровым, Войницким, моей Еленой?
Гиацинтов. Они как на ладошке. Но почему герр профессор не разрешил Елене музицировать?
Веточка. А, поздним вечером после разговора с Соней.
Гиацинтов. Категорически отрезал: «Нельзя». Это не укладывается в его образ. Тут Антон Павлович, пожалуй, ошибался. Дрогнул!
X
Веточка в полете
После репетиций Веточка бывала взвинчена. То замыкалась, то покрикивала на Константина. Иногда доставалось Степке. Но, словно очнувшись, тут же его тискала, вертела, крутила, называя «мой детеныш». Терпеливый Костя, понимая природу творческого замещения, которую разбирал на лекциях, сколько-то выжидал, а потом провоцировал выговориться. Она охотно раскрывалась, выкладывая впечатления от занятий. «Понимаешь, – растолковывала она мужу – оттого что мы работаем индивидуально, Филипп озвучивает все роли. Это такая прелесть. Не просто говорит текст, который знает назубок, но преображается в каждого. И это без грима и масок, как делал, скажем, Райкин. Ему ничего не надо. Чуть изменит прическу и мгновенно оборачивается Астровым, дядей Ваней, профессором, Вафлей. При этом ни черточки сходства. У каждого своя походка, интонация речи, манера держаться». Веточка, недолго собираясь, тут же сама изображала чеховских мужчин, добавляя свои красочки. Текст она, как Гиацинтов, помнила за всех и разыгрывала фрагменты сцен. «А как он показывает женщин», – ахала возбужденно Веточка. «Любопытно глянуть», – подталкивал ее Константин. Она тут же превращалась в няньку Марину, тихую мышку Соню, барственную «мадам» и, конечно, свою Елену, добавляя чуть томности и кокетства. Костю лицедейство жены умиляло и даже наполняло гордостью, какая его Веточка многогранная, почти как Ломоносов! Она, наигравшись в удовольствие, рассказывала о других талантах Филиппа Додоновича. «Он не просто режиссер-новатор, – объясняла она Косте, – он просвечивает пьесы, как томограф, находя невидимое для глаз. Например, в «Дяде Ване» персонажи кажутся непонятными, наделенными несовместимыми чертами». Поглаживая Степку, спрашивала: «Для слоника наша Мурка большая или маленькая?» «Маленькая», – отвечал детеныш. «А какой она кажется муравьишке?» – «Большой», – смеялся Степа. «То же самое у Чехова. Он не только видит своих героев, а смотрит на них их глазами. Поэтому для «маман» герр профессор светило, гений, а для Войницкого бездарь и посредственность. «Помнишь «Расемон» Куросавы, – тормошила она мужа. – Там одно и то же событие все воспринимают по-разному. Когда создавался «Расемон», а когда «Дядя Ваня». У нас герр профессор появится иным, чем в старых постановках даже великого Гоги. Наш будет заметным, значительным. Его можно не жалеть и не мучиться его болячками. Он всю жизнь куролесил, первую жену загнал в могилу. Профессор далеко не старик, по-нашему, не доработал до пенсии, – повторяла она за Гиацинтовым. – Он не пропадет. Сейчас мужики в семьдесят женятся на девчонках. Ничего – детенышей стряпают. Вон этот из Питера, у которого сын не дожил до старости. Тот в земле. А он мальца повел в школу».
Константин не знал, к чему такой выпад: «Согласен. У Серебрякова подагра, но он в работе. Ночами пишет, читает. Он честный ученый. Сын дьячка, добился кафедры, профессорского звания. Это повыше моего доцентства. Его превосходительство – не какой-нибудь кандидатишко без перспектив».
Веточка радовалась за Елену ходу мыслей мужа. «По-твоему, профессор не так уж плох. Утешится, если что не так. Костик, – прижималась она к мужу, – ты меня успокоил. Это так важно. А то в пьесе все ахают: болен, мучается. Так исстрадался, что сыграть на рояле не разрешил. Музыка, видите ли, ему не в радость. Я этого не понимаю. Кстати, Филипп тоже». Костя разводил руками, печалясь Веточкиными печалями. Подкреплял жену новыми доводами. Какой он больной, когда расчетлив за двух здоровых. Если не ошибаюсь, решил продать имение Войницких, где его доля с поросячий хвостик. Живой он, живее всех живых и держится за жизнь, как клещ за шею. Веточка, радуясь такому факту, решила тут же позвонить режиссеру и поделиться полезной информацией. «Костя, – тормошила она мужа, – как я рада, что мы – единомышленники. Ковать надо, пока горячо. Мы созданы для радости, как птица для полета». Костя не собирался возражать. Его Веточка была в полете.
Ночью она встала и записала строчки:
Взлететь. Заблудиться.
Да что там иные таланты –
Себя позабыв в ослепительно белом бреду,
На цыпочки встала и будто на шатких пуантах
По про,стыне снега к тебе осторожно бреду.
Приподнятость тела
и губ запрокинутых смелость,
И стылое небо, и не было смысла в словах,
И ах! –
как по-девичьи, жадно-то как, неумело
Я, стоя на цыпочках, стала тебя целовать…
«Как изящно, трогательно, – хвалил жену Костя, послушав стихи, – так и вижу тургеневскую девушку, кстати, по духу близкую тебе». Спрашивал, слегка напуская иронию: «Дружочек, ответь как ученый ученому: откуда возникают подобные строчки?» Она в том же тоне отвечала, вспомнив Кара-Даг: «Из ясного неба над синим морем». Костя смеялся: «Это не научно. Они – из сновидений. Их нельзя придумать работой мысли». Советовал осмысливать подобное явление для выступления у академика Поцелуйкина. Веточка согласно кивала, но вдруг призналась, смягчая свои слова улыбкой: «Какая скука эта наука в сравнении с лицедейством. Быть волшебником, превращаясь в кого угодно: Клеопатру, Анну Каренину, даму с камелиями, Сонечку Мармеладову, Настасью Филипповну, Елену Андреевну… Вместо одной собственной прожить десятки жизней, да каких! Не житейских, обыденных, а необычных, с беспокойной, неясной судьбой». Константин кивал, любуясь Веточкой, называя фантазеркой и натурой романтической, плывущей по жизни под алыми парусами. Улыбаясь, чтоб не выглядеть чеховским персонажем из «Трех сестер», мужем Маши, учителем Кулыгиным, говорил: «Ты – моя Ассоль». Она в том же тоне, в каком получился разговор, заявила, что готова расстаться с наукой и пойти в артистки, связав жизнь со сценой, закулисьем. «Конечно, конечно, – соглашался Константин, докармливая Степку кашей, говоря ему строчки из Михалкова: «Мама на подмостках, что плохого. А у Маши и у Веры мамы милиционеры. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны». Но Веточка, став серьезной, ответила вопросом: «А если без шуток? Я не первая, кто меняет профессию. Мне нет тридцати – все впереди. Тот же Чехов выучился на врача, а кем стал?» Костя отшучивался: «Кто не знает его признания: «Медицина – жена, литература – любовница». Но Веточка засыпала его десятком примеров, когда инженеры, педагоги, ученые, бросив профессию, уходили в актеры. «Ты не просто ученый, а уже кандидат, почти доцент. Слишком далеко зашла. Поцелуйкин прочит тебе яркое будущее и докторскую диссертацию вслед за моей». Спрашивал уже без шуток, основательно: почему она уверена, что годится для сцены? Одно дело изображать, даже талантливо, других, иное – создавать художественные образы, характеры, судьбы. Это профессия. Ей учатся годами». Тут у Веточки имелись примеры, которые ей приводил Гиацинтов. Она укладывала их высокой стопочкой, где каждый кубик был российской знаменитостью: Игорь Горбачев, Алла Демидова, Александр Филиппенко… Наконец, завершающим аккордом – великий реформатор и создатель МХАТа сам Алексеев-Станиславский – режиссер и актер.
Разговор был долгим. А закончился кратко. Веточка пригласила мужа на премьеру. «Придешь, увидишь, на что я способна».
ХI
Советы Поцелуйкина
Филипп Додонович торопил события. Развязка приближалась. Премьеру рекламировали, появились афиши. Обозначилась дата конкретных сроков. Тем жизнь отличается от театра: в ней заранее не укажешь знаковые даты. Веточка, увидев новенькие афиши, глядела на них, как кролик на удава. У нее холодели ноги и рябило в глазах.
Гиацинтов, как опытный наездник, вел ее к финишу крепкой рукой.
Накатывалась сцена объяснения Елены с Астровым. Жуткая для Веточки прямотой отношений. Он ее домогался, она упиралась. Вечная игра разнородных субстанций. Каких только книг об этом не читала, сколько видела фильмов, но как сторонний наблюдатель. А здесь предстояло участвовать самой. Объяснение как объяснение, довольно деликатное, хотя с напором. «Это же имитация, игра воображения», – успокаивала себя Веточка. Придется целоваться, но, во-первых, она не школьница младших классов, слава богу, это она умеет, тем более поцелуй не реальный, а сценический. Она видела, как это устраивают. Партнер заслоняет даму от зрителя и делает вид, что впился вампиром. А на деле может показать язык или скорчить уморительную мину, пытаясь рассмешить. О таком она читала в чьих-то мемуарах из актерской жизни. Но смущали отношения с Филиппом Додоновичем. Он ее запутал, смешав реальность с вымыслом. Где она, а где Елена! А если честнее, в чем Веточка не могла не признаться, симпатия к Астрову, прописанная Чеховым, перекинулась на ее Пигмалиона. Реальная радиация его энергии увела в тень резонерство Астрова. Она не понимала, как играть увлечение, когда оно возникло на деле. А если его скрывать, то зритель, конечно, почувствует фальшь и неискренность. Веточка, вспомнив, что она ученый, обратилась за помощью к новым исследованиям психоаналитиков. «Сексуальное влечение, – писали отцы-психологи, – можно переводить в каналы творчества, создавая достойные чувства проекты. Кому это удается, становится Микеланджело, или Чайковским, или Байроном… Но сублимация не беспредельна. Так недолго превратиться в невротика».
Веточка под видом научной консультации позвонила не равнодушному к ней Поцелуйкину. Академик, слушая, сопел в трубку. Потом закхекал.
Поцелуйкин. Да ты, матушка, никак втюрилась. Брось темнить. Все как на ладони. Рад за тебя больше, чем за ученого. Ты – не вертихвостка. Жаль, что не в меня. Костя? Костя пусть терпит и грызет науку. Шали, пока охота.
Веточка. Гермоген Бонифатьевич, хватит меня разыгрывать. Говорите словами Елены из «Дяди Вани»: «Поддаться обаянию, забыться…» Жизнь – не пьеса. А дальше что?
Поцелуйкин (смеется в трубку). В омут. Дайте себе волю. Куда-нибудь да прибьет. Считайте это за практику для новых научных свершений. На себе эксперименты надежней. Пастер испытывал вакцину от бешенства, начиная не с укушенных, а с самого себя. Также Кох, Флеминг. Они рисковали жизнью. А ты, матушка, чем? Здоровью это не вредит. Только щекочет нервы. Заменяет любые курорты: Мацесту, Кисловодск… Лучше всяких грязей, диеты, ванн… Омолаживает лучше пластики…
Веточка. Вас послушаешь… Женщины – не мужчины. Это им раз плюнуть. Я лучше и выше, чем вы думаете. Клянусь вам.
Поцелуйкин (смеясь). Душенька, о чем вы говорите. Совершенно не научно. Выше этого быть нельзя. Тоже из какой-то пьесы. Можно жизнь прожить и не влюбиться. Сексуальничать – и только. А тебе, кажется, повезло. Воспаришь. Когда охмуряюсь, работаю как вол. Сдаю в печать по книжке.
Веточка (с волнением). Гермоген Бонифатьевич, вы – гигант. Сдавая кандидатские, я только вас два месяца читала.
Поцелуйкин (посмеиваясь). Окунись в омут, но только с головой. За годик-два сотворим докторскую.
Веточка. Все вы меня разыгрываете. И вы, и некоторые. Об одном и том же, я вроде не последняя дурочка, а в себе совсем не уверена. Кто хочет мною вертит. Обращаются, как с манекеном. Сделай то, сделай это. Думай так, думай не так. Это я сверху бойкая, а копнешь – тесто тестом. Никакого стержня. И сейчас, и в девичьих романах. Как пишет Чехов – эпизодическое лицо.
Поцелуйкин. Нормально, матушка, нормально. Терпеть не могу баб с повадками кентавра. Она и лошадь, она и всадник. А ты – лапушка, мягкая, застенчивая, да еще и умненькая. Мечта.
Веточка. Вдруг мне выпала главная роль. Как с неба, случайно. Костя познакомился с главрежем нашего театра Гиацинтовым.
Поцелуйкин. Слыхал, слыхал. Он у нас в Питере что-то ставил. Какой-то «Дурдом». Фармазон изрядный. От критиков досталось.
Веточка. Новатор. Предложил в чеховском «Дяде Ване» сыграть Елену. А сам – за Астрова.
Поцелуйкин. Прекрасную Елену. Поздравляю. Роковая дама. Но недотрога. В вас что-то общее.
Веточка. Скоро премьера. Дрожу, как овечий хвост.
Поцелуйкин. Давно у вас не был. Приглашайте на спектакль. Поднесу цветы. Корзину цветов.
Веточка. Ой, не надо. Там столько наворочено. Не совсем по Чехову. Умру со стыда.
Поцелуйкин (хохоча в трубку). Любопытно. Тем более появлюсь.
XII
С головою в омут
Репетиции «Дяди Вани» перешли из застольных на сцену. Гиацинтов стал приглашать Веточку не участвовать, а мышкой сидеть за шторкой в ложе, чтоб никто не пялился. Разрабатывали первые два акта. В сцене объяснения Сони с Еленой актрисы не раздевались, а трюкачили в одежде. Поэтому пляска, придуманная режиссером, выглядела убого. Веточка глубже оценила чутье Гиацинтова, для такого душевного слияния обнажить не только душу, но и тело. Гиацинтов то носился чертиком по сцене, то усаживался, как Станиславский, в седьмой ряд партера приглядывать за актерами со стороны. Актеры слушали его без вопросов, принимая замечания как аксиому. Гиацинтов частенько повышал голос, начальственно, по-барски, покрикивал на грани мата. Это Веточку уважительно впечатляло. Ей нравилась его значительность. «Какой он властный и решительный», – замирала от восхищения Веточка, покоренная его авторитетом.
Отрепетировав и оторвавшись от супруги, заходил к Веточке в ложу глянуть и выяснить впечатление. Она, не искушенная в укладке спектаклей, светилась восхищением и щедро нахваливала. После дуэта Сони и Елены, стараясь быть серьезной, все же спросила, будет ли его Раиса обнажаться. Гиацинтов, оценив вопрос, засмеялся, спросив, за кого она его принимает. Неужели он похож на идиота? Хотя его обезьяна готова и даже скандалила по этому поводу. А вот Сонечка, актриса Свеколкина, – нужных форм: садится на шпагат и делает сальто. К тому же подрабатывает стриптезершей в ночном клубе в масочке. В десятый раз повторял, как пошло твердить, что театр – храм, где не место обнаженному телу. Театр, конечно, храм, но не божий, а Мельпомены с Терпсихорой. В Лету канули те времена, когда знакомились по регламенту. Сегодня взглянул, через месяц вздохнул, через год пожал пальчик, через два локоток – и так далее, и так далее… В театре не каются, не молятся, не поют псалмы. Сюда идут заряжаться энергией, поднимать настроение, разбираться в себе и своем окружении, смеяться над жадностью, пошлостью, подлостью. Здесь не надо прописных истин, повторения таблицы умножения. Хоть на шаг опережать время, расширяя представление человека о себе.
Веточка впечатлялась не столько смыслом монологов Гиацинтова (сама была теоретически подкована), сколько манерой и напором режиссера. Гиацинтов ей казался временами кем-то вроде пророков прошлого: Саванароллы, братьев Гракхов, Аквинского Фомы и реформаторов театра: Мейерхольда, Станиславского, Олега Ефремова. Он, видя ее восхищение, увеличивал интенсивность ораторского облучения. Очевидное выглядело у него откровением. Как можно было устоять, если он брал в союзники Чехова, вспоминая его Треплева из «Чайки». Не Треплев толкует о новаторстве, а его словами сам автор. Цитировал монологи Константина кусками: «Современный театр – это предрассудок… великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль – мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе, когда в тысяче вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же, – то я готов…» Добавляя от себя: «Сжечь театр и пойти, как Бендер, в управдомы».
Веточка аплодировала его горячности. Он напоминал ей доктора Астрова с его воззванием о пользе лесов. «Конечно, – думала она, становясь сентиментальной. – Они похожи, Филипп и Михаил Львович. У них обоих самые широкие планы на будущее, они верят, что приносят огромную пользу людям, у них собственная философская система. И все им представляются букашками… микробами. Любопытно – и я тоже? Я думаю мыслями Астрова», – спохватилась она и смеялась такому гипнозу. Но ее уже несло, и слова роли казались своими. Она видела себя со стороны, не зная, как это профессионально выглядит, видя при этом Гиацинтова.
Ожидая его в университетской аудитории, репетировала свой монолог из спектакля о докторе Астрове.
Веточка. «Он талант. А знаете, что значит талант? Смелость, свободная голова, широкий размах… Такие люди редки, их нужно любить. Он пьет, бывает грубоват, невежлив, деспотичен. Но что за беда. Талантливый человек не может быть в России чистеньким. Многого захотели. Страна, как сто, двести лет назад. Правят наследники прошлого. Зарплаты профессоров ниже, чем у прапорщиков. Наборы студентов падают, работы потом не найдешь. Школы забиты стариками. Их можно понять, на пенсию не проживешь».
Повторяла, как чеховская Душечка, вслед за режиссером: «В театрах полный бардак. Актеры бедствуют. Штампуют их, как гвозди, а работы нет. В одной Москве четыре тысячи без дела. Зарплаты в основном копеечные. Живут, кто прорвался в сериалы. На билеты цены мизерные, а повысишь – зритель не пойдет. На дотациях только академтеатры, а они наперечет. Денег на постановки не дают, на гастроли, как раньше, – тоже. (Оживленно.) Дороги – ни к черту. Асфальт битый, разметки нет. За городом дороги без разделительного ограждения. Едут по встречке. Аварий тысячи. Пенсионеры – в нищете. Медицина непонятно какая. Без денег – очереди. Не дождавшись – помрешь. С жильем – беда. Ипотека – для богатеньких. Коммунальщики жируют. Живем на чаевые, как при старой власти. (Одушевляясь.) При такой обстановке тому, кто от души работает и борется изо дня в день с косностью прошлого, непониманием, трудно сохранить талант, желание трудиться по-новому. Филиппа выкинули из московского театра из-за голой жопки героини. Подумаешь, что такого. Была бы жопка как надо». (Почти весь монолог Веточку слушает Гиацинтов, стоя за дверью. Когда она умолкает, входит.)
Гиацинтов. Браво. Браво. Почти по Чехову. А как искренне, правдиво. Так бы на спектакле.
Веточка. Неужели вы все слышали? У меня крышу снесло. Брежу наяву.
Гиацинтов. Слыхал. И про театр, и про ягодички.
Веточка. Кошмар. Заигралась. Вошла в роль.
Гиацинтов. Гора с плеч. Не знал, как подступаться. А вы сами про ягодички. Не решался заикнуться. Судьба спектакля была в ваших ручках. Вот этих самых. (Целует ей руки.) Давайте сразу приступим. После слов Астрова: «Вы – хитрая».
Веточка. Так сразу?
Гиацинтов. Вы же в роли. Сейчас сказали. За новаторский театр.
Веточка (играя). Что это значит?
Гиацинтов (за Астрова). Хитрая! Вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день… Зачем и ради кого бываю, это вы отлично знаете. Хищница милая, не смотрите на меня так.
Веточка (в недоумении). Хищница? Ничего не понимаю.
Гиацинтов. Красивый, пушистый хорек. Вам нужны жертвы. Вот я уже целый месяц жадно ищу вас – и вам это ужасно нравится, ужасно. Ну что ж? Я побежден, вы это знали и без допроса. Покоряюсь. Нате, ешьте!
Веточка. Вы о чем?
Гиацинтов (загораживая ей дорогу). Я сегодня уеду, бывать здесь не буду, но (берет ее за руку) где мы будем видеться? Говорите скорее: где? Сюда могут войти, говорите скорее. (Обнимает Веточку.) Какая вы чудесная, роскошная… Один поцелуй.
Веточка. Ой! Дверь не заперта.
Гиацинтов. Опять эта дверь. Вспомните ягодички. Не надо лишних слов. Веточка, я давно без ума. Сразу, как вас увидел. Поэтому согласился. Я хитрый, как Астров, стреляный воробей.
Веточка. Вы хитрый. Лицедей. Я чувствовала, чувствовала. Но не верила.
Гиацинтов. Вы – чудо. Ручной работы. Вас господь поцеловал в макушку.
Веточка. Слова не по роли.
Гиацинтов. К черту роль. Освободись. Выйди из нее. Это так просто. Дай губы.
Веточка (смущенно). Как же роль? Я с ней срослась.
Гиацинтов. Ты знаешь – это неизбежно. (Обнимает ее за талию.)
Веточка. Только не здесь. Здесь это пошло. Портреты кругом.
Гиацинтов. Какой ты ребенок.
Веточка. Сейчас войдет Войницкий!
Гиацинтов целует ее страстно.
Веточка (повисла на его плечах). Ой, как жутко. Как удар током. Здесь больше не хочу. (Вырывается.) Это ты… вы или доктор Астров?
Гиацинтов (взяв себя в руки, иронично). Какая разница!
Веточка. А все-таки?
Пауза.
Гиацинтов (в том же тоне). Чертова профессия. Сам, случается, не знаю, где я и где не я.
Веточка. Опять смеетесь.
Гиацинтов (почти серьезно). Считай меня сама за кого хочешь. (Пауза.) Продолжим. Войницкий войдет, как положено, с цветами. Увидит тебя в моих объятиях. Ну и что? Разве нынешний искушенный зритель поверит, что после какого-то поцелуйчика, да еще чужой жены, так запсихует, что бросится за револьвером убивать не Астрова, а герра профессора.
Веточка. Объяснимо. Тот предложил продать имение.
Гиацинтов. Именно. Предложил – не больше. Оно же не его. За такое не убивают. Зритель примет Войницкого за сумаcшедшего и будет смеяться. Тебе это нужно? Мне – ни в коем случае. Превратить драму в фарс, пошленький водевиль. Надо зрителя не морочить, отправляя в музей старины, а соответствовать его сознанию. Не лечить просроченными лекарствами. (Пауза.) А вот ревность – причина понятная. Выстрелы станут оправданными. Поэтому мы выстроим все иначе.
Веточка. Не томите. Что вы там напридумали?
Гиацинтов (насмешливо). О, в страшном сне не привидится. Ты на все готова? (Обнимает и нежно целует Веточку.)
Веточка (между поцелуями). Готова! Готова!
XIII
Удар током
Потом она не шла, а летела, не понимая куда. Дом был рядом, а она оказалась у озера в парке, чуть присыпанном запоздалым снегом, но таким же белым, как в начале зимы. Она караулила строчки, возникающие, как из старого телеграфа. Они выстраивались в строфы. Она их шептала и сглатывала сладкие слезы:
Губы, розой распахнутые, поцелую.
Все равно потом больно, больно!
Я тебя ми,лую или милую, –
называй как знаешь. Довольно
с нас намеков на то, что, может,
между нами однажды…
Губы, розой распахнутые, поцелую,
ложный стыд от поспешно-грубых –
от похабных твоих объятий.
И потом еще – губы, губы!
И поспешно снятое платье.
Строчки она не доверила бумаге, а оставила нераспечатанными.
XIV
Генеральная
Перед премьерой всегда бывает генеральная, перед ней репетиции на сцене и прогон в костюмах, с музыкой и светом. Веточка из норки-ложи видела все мизансцены и, как азбуку, запомнила. Тянуть было больше нельзя, и к прогону Гиацинтов предъявил ее труппе. Шок был изрядный, но Раиса приняла ее спокойно, можно сказать, приветливо. Филипп Додонович, разумеется, ее подготовил. Со скандалом или без – неизвестно. Что касается актеров, то подобные «нежданчики» они знали. Некоторые по разговорам, а кое-кто сталкивался лично. Заслуженный Парамон Кончезерский по приказу готовил роль Хлестакова, а премьеру играл вчерашний выпускник питерской театральной академии Левушка Сундик. Было это до Гиацинтова, но было. Актеры – народ болезненно-творческий, и явление конкурентки примадонне Раечке не могло их в душе не порадовать.
Начиная с прогонов, Веточка была как на иголках. Она нервно смеялась, отвечала невпопад, срывалась. Костя, зная, что вот-вот премьера, двигался, как говорится, по стеночке. Звонил академик Поцелуйкин, сообщив, что уже взял билет, и назвал номер поезда и вагона.
«Степку можно взять?» – спрашивал Константин. Веточка менялась в лице, хватаясь для упора за стул: «Как ты мог такое придумать, – выговаривала она мужу, – это же не «Каштанка», а очень серьезная пьеса про любовь. Детям до 16 – ни-ни». Добавляла со стеснительной улыбкой: «Ты бы тоже лучше не ходил. Такое увидишь!»
Костя. Чехов – классик. Морально устойчивый драматург! Понимающий природу жизни. Да, у него в каждой пьесе любовь. По Фрейду сексуальное – в основе жизни. Даже сосание материнской груди – уже секс. У Чехова сходятся, разводятся. Изменяют довольно часто. Не только мужчины, но и дамы. Маша, Наташа, чуть не пала твоя Елена. Все по жизни. Но довольно пристойно, без перекосов, пошлых деталей. За это мы любим классиков. Никакого натурализма.
Веточка. Костик, какой ты у меня славный. Настоящий кабинетный ученый.
Костя. Что плохого? Ты смеешься. Я этим доволен. Рад, что ты играешь классику.
Веточка (иронично). Увлеклась. Как еще увлеклась!
Генеральную Гиацинтов проводил, как водится, публично, чтобы создать актерам реальность спектакля. Пусть без аплодисментов, по флюидам дыхания: ровного, учащенного. Всплески смеха, охи, ахи – все способствовало лицедейству. Актеры за прикрытым занавесом, по новым веяниям, крестились, крестили кулисы, бутафорию, декорации, пожарных, рабочих сцены, татарина Насруллаева, играющего Телегина, иудейку Альпиншток, исполняющую няньку Марину. Протоиерей Никон подсылал в театр отца Серафима, но Гиацинтов отговорился многоконфессиональностью труппы. Мулла в городе был, а раввина не завели.
Константина усадили в директорскую ложу вместе с деятелями из мэрии и минкультуры. Пошел занавес, заиграла шарманка. Старая нянька потчевала Астрова. Гиацинтов в его роли прикрылся русым паричком и держался вальяжно, как-то по-купечески, без налета докторской серьезности. Костя никого не видел и не слышал – все плыло в каком-то тумане. Он ждал появления Веточки. Наконец она выпорхнула на сцену, удивив необычным нарядом. Вместо длинного, почти до пят, платья, как ходили в то время дамы, на ней был легкий сарафанчик, едва закрывающий колени, с глубоким вырезом до груди. Практически Веточка была полуодета, демонстрируя стройные, крепкие ножки, мускулистые ягодички бегуньи и небольшую подростковую грудь. Соседи по ложе, до этого затаившиеся, тут же задвигались, зашептались, выясняя, кто такая, откуда, почему не знаем. Ему сначала захотелось объяснить, рассказать по полной программе: имя, должность, научное звание и представиться, кто он ей. Но, подумав, взял себя в руки, прикусив покрепче язык. Он будто что-то предчувствовал.
Сценические события шли своим чередом. Хотя текст говорили слово в слово по Чехову, но внешность и манеры сценического поведения персонажей с ним не стыковались. Нянька Марина кучерявилась завивкой, сверкала перламутровым маникюром, дымила сигаретой и носила шорты. Разговаривая с Астровым (этим начиналось действие), внаглую с ним флиртовала, делала «глазки» и даже прижималась. Точно так же вела себя с профессором. Уведя в спальню, закрывала за ними дверь на ключ. Маман, Мария Васильевна, мать «дяди Вани», не отрывалась от компьютера и пользовалась скайпом, отправляя и получая эсэмэски. Носила брюки и появлялась без кофточки, в одном бюстгальтере, но черном. Стрижку носила новомодную, когда волосы рассыпаны в беспорядке, как при штормовом ветре. Доктор щеголял тоже в шортах, кроссовках «Nike» и пестрой футболке с драконами. Ему звонили на мобильник. Он жонглировал тарелками, ходил на руках и стоял на голове. Дядя Ваня появлялся босой с платочком, повязанном на голове узелками. Не расставался с мухобойкой, которой настойчиво бил мух не только на столе и стенках, но и на людях. Особенно докучал Серебрякову, доводя до белого каления. Дядя Ваня играл на кларнете, а Соня, его сводная сестра, на флейте. Иногда все домочадцы пели хором. То в мажоре под балалайку сторожа, то в миноре – под флейту и кларнет Войницкого и Сони. Соня садилась на шпагат и делала сальто. Елена изображала уморительно присутствующих и нынешний правящий дуэт. Герр профессор упражнялся со штангой, поднимал левой и правой стулья. Носил Елену на руках. Выезжал на сцену на велосипеде вместе с маман, не расставаясь с ноутбуком, набирая новые статьи. Было шумно, скандально, тревожно. Зато в зале никто не покашливал, не ерзал, не ронял номерки.
Когда загремел гром, засверкали молнии и Соня с Еленой слились в дуэте, изливая душу, Костя замер от удовольствия. Музыка поэзии коснулась его сердца. Но дальнейшее придавило к креслу. Его Веточка, супруга и мать Степки, кандидат наук, член ученого совета, в перспективе доктор, заметная в городе личность – вдруг с явным удовольствием, кружась в ритме танца, в два счета освободилась от одежды и осталась обнаженной, какой бывала, не считая ванны, только с ним. Он зажмурил глаза, чтобы этого не видеть, вычеркнуть из сознания. Но другие, человек сто, наоборот, распахнули глаза пошире. Это он знал точно, изучая психоанализ секса. Уставились на его Веточку, ее античную фигурку, не мраморную, а живую, вызывающую не высокие, а низменные чувства. Музыка завораживала, гремели раскаты грома. А со сцены доносились счастливые, звонкие голоса свободных от суеты подруг. Сонин: «Я так счастлива-счастлива»; Веточкин: «Мне хочется играть. Мне хочется играть… Я сыграла бы теперь что-нибудь». Ответ счастливой Сони: «Сыграй. Я не могу спать… Сыграй». И Веточкино щемящее искренностью признание тоном, которого никогда он раньше не слышал: «Давно уже я не играла. Буду играть и плакать, плакать, как дура. Плакать, плакать, плакать!»
Костя вздохнул и выпустил из-под век слезинку. Он был рад сценическому счастью Веточки, хотя в душе понимал, что все значительно глубже. Но сознание, что на Веточку пялятся, портило радость. Если бы он не жмурился, а глядел на сцену как все, то увидел бы темноту и в ярких вспышках молний непонятные женские силуэты, скрывающие наготу.
В антракте он не решился с ней встретиться и прятался за портьерку ложи, избегая посторонних взглядов. Могли оказаться знакомые, готовые на ханжеские восторги. Он пока не определился, как вести себя с Веточкой, Гиацинтовым, завсегдатаями ВТО и, конечно, после премьеры с коллегами по работе. Да и как после этого стриптиза сама Веточка встретится с ними, а главное, со своими студентами, которые посещают театр. С опасением ждал продолжения спектакля, помня о сцене объяснения Астрова с Еленой. У Чехова были объятия с поцелуем. Он к этому давно себя готовил, успокаивая, что это всего лишь бутафория, условная игра в любовь. И Веточка его настраивала, рассказывая, как все произойдет. Даже попросила быть за Астрова, обняла, отстранив животик, развернула как бы спиной к зрителю и коснулась сомкнутыми губами подбородка. Это его приободрило. Но не вся публика в курсе такой профанации и доверчиво примет поцелуй за настоящий. Кому будешь объяснять? Покрутят пальцем у виска, признав за идиота. В конце концов он смирился и даже иронизировал над своим мещанством и дедовской ограниченностью.
Но Косте в страшном сне не приснилось бы, что его ждало впереди.
Третий акт закрутился нестандартно. Войницкий разделывал крупную рыбу, Соня гладила белье, Веточка занималась гимнастикой, выделывая разные фигуры. Войницкий, глядя на нее, забыв о рыбе, порезался и посасывал палец. Потом Елена крутила обруч, один, два, три… Потом говорила сама с собою об Астрове. Признавалась, что увлеклась немножко, что без него ей скучно, что улыбается, думая о нем. Не сдержавшись, восклицала: «Не дать ли себе воли, хоть раз в жизни, улететь свободной птицей от всех-всех». Но ее мучила совесть перед Соней, давно влюбленной в Астрова. При этом Веточка-Елена начинает крутиться в страстном танце, выражая энергию желания. Появляется предмет ее увлечения – доктор. Долго и нудно толкует о жизни, ее проблемах – явно не о том, чего хочет. Она слушает, не понимая. Ей сейчас не до умных слов. Она ждет, хочет других. Берет Астрова за руку. Говорит о чувствах к нему Сони, а сама думает о своих. Ее волнение передается доктору. Он что-то понимает и отпускает себя с поводка, в минуту преображения превращаясь в азартного страстного охотника. Она, естественно, пугается, робеет, но не уходит. Она ждет и хочет продолжения. Астров, по чеховским ремаркам, обнимает ее, страстно целует. Тут по пьесе должен появиться дядя Ваня с букетом свежих цветов. Но вместо этого происходит нечто непредвиденное. Дядя Ваня почему-то задерживается, а доктор, сжимая Елену в объятиях, быстро уводит в беседку. Наступает полная тишина. Слышен только сдавленный голос Елены: «Не спеши. Мне больно. Я сама». Через стенку беседки на сцену летит сарафан и все, что было на Елене. Возникает звук Сониной флейты. Где-то кричит петух. Бодро, победно. Шепот и стоны Елены: «Милый, милый. Как хорошо. Хо-ро-шо!» Играет флейта, и стонет Елена. Заливается петух. Вот тут появляется Войницкий, несчастный дядя Ваня с роскошным букетом роз. Стоит, прислушивается. Нетвердо ступает к беседке. Заглядывает. Несколько мгновений смотрит. Прячет лицо в букет. Пятится и бормочет текст пьесы: «Ничего… Да… Ничего». Спотыкается и падает навзничь. Флейта умолкает, петух тоже. Из беседки выскакивает Веточка – обнаженная. Освещенная заходящим солнцем. Секунду-две стоит на авансцене и с чеховскими словами: «Это ужасно! Ужасно!» подбирает одежду и скрывается в доме. В зале слышно, как пролетела муха.
Константин, наступая на чьи-то ноги, выскочил из ложи.
Бродил по парку, по пустынной набережной, откуда колючий ветер смел любителей прогулок. Костя не был ретроградом, отрицающим обнаженную натуру на подмостках сцены, лишь бы она не становилась самоцелью, а служила художественному замыслу. Тут они пришли с Веточкой к консенсусу. Но одно – теоретические изыски, а другое собственная любимая женщина, супруга, мать при ярком освещении, на авансцене в костюме прародительницы Евы. На его Веточку будет пялиться весь город, ее студенты, профессора, доценты, ректор, проректор, гардеробщицы, вахтерши. Прослышав про такое явление, побегут на «Дядю Ваню» и даже те, кто не бывал в театре. А кое-кто не один раз. Никому не придет в голову хотя бы приписать в афише и на кассе «Кроме детей до 16 лет». А он еще собирался привести Степку показать мамочку.
В том, что так и будет, он ни на йоту не сомневался. Года два назад шел спектакль по Ремарку, где красотку Пупырышкину показали с обнаженными до ягодиц ножками, и весь город смаковал такую вольность. Костя тогда искренне недоумевал: почему балерины в пачках никого не задевают за живое, а в драме те же ножки принимают за стриптиз. А тут не только ножки, а все остальное в полный рост. «Это явный перебор», – не сомневался Константин. Никакой творческой необходимости. Новатор Гиацинтов вполне мог ограничиться деталями нижнего белья мадам профессорши, выброшенными из беседки. А он потерял чувство меры, шокируя Войницкого, а заодно и публику.
Но особо его беспокоил визит академика Поцелуйкина. Премьера намечалась на послезавтра, а академик приезжал на день раньше, чтобы научно пообщаться, испить петровской воды и кофе с местным бальзамом. Константин возил его в Питер регулярно.
Представить Поцелуйкина на Веточкиной премьере Костя не мог. Чтоб талантливый ученый, любимая ученица, в обозримой перспективе доктор, профессор бегала обнаженной по сцене, было, как говорил все тот же Чехов, хуже казни египетской.
Костя быстро семенил по набережной, растирая немеющее от ветра лицо. Он не представлял, что делать. Уговорить Веточку взять больничный, привязать, поколотить до синяков. «Совсем с ума сбрендил», – осаживал себя Костя, сбивая градус возбуждения.
Наконец, до костей продрогший, дождавшись света фонарей, побрел как оплеванный домой, не зная, как говорить с женой.
XV
Утешитель
За дверью его встретил Гиацинтов. Как близкого, родного, приобнял, задышал свежевыпитым коньячком. Помог раздеться, переобуться. Растирал твердые мраморные щеки, уши, нос. Говорил в экстазе вдохновения, что ему недорого стоило. А Веточка стояла рядом и застенчиво, счастливо улыбалась.
Гиацинтов. Костик, куда же вы пропали? Я бегал за вами после занавеса позвать на обсуждение.
Веточка. Мы тебя искали.
Гиацинтов. Вы много потеряли, пропустив разборку.
Веточка. Там такое было! Куда ученому совету! Ругань, крики. Коммунист Рукопашный даже плюнул в Филиппа Додоновича, пообещав пожаловаться Зюганову и подать иск в суд.
Гиацинтов. Ерунда все это. Нам, художникам, не прикажешь. Коммунисты приучили и к плевкам, и к зуботычинам, и к пинкам, и к распятию. Теперь им зубы подточили. Главное не это. Наша Веточка в успехе. Все лавры ей. Критики, особо питерские, ошалели от удовольствия. Слюной потекли. Почему не знаем? Где учились: в Щуке, МХАТе, на Моховой?
Веточка. Филипп, не преувеличивайте. Не ругали, и то ладно.
Гиацинтов. К чему умалчивать. Не премьера, но генеральная – визитная карточка. Константину должно быть приятно. Вознесли супругу. Такой талант. Не только в науке. Все отметили грацию, искренность, естественность. Брависсимо!
Костя (иронично). Фигуру, ножки и т.д. и т.п.
Гиацинтов. И фигуру. Что плохого! Все по Чехову: в человеке все должно быть прекрасно – не только душа и мысли, но и тело. Для актрисы это не лишнее. Даже наоборот. Зритель ходит в театр не только умствовать, но и впечатляться. Получать удовольствие, импульс радости. Константин, гордитесь. Веточку сравнивали с молодой Нееловой, Майоровой, Иечкой Савиной из «Дамы с собачкой». Предсказали, представьте, интересное будущее, как Зинаиде Райх.
Костя. Вы о чем? Райх, кажется, служила секретаршей. Сцена ей открывала перспективы. А Веточка состоявшийся ученый с устойчивым будущим. Ей-то к чему кулисы?
Гиацинтов. Ни слова против науки. Преклоняюсь. Эйнштейн, Фрейд, Капица. Наука для ума. А Веточка – букет чувств. (Пауза.) Поверьте, я это испытал.
Костя (подозрительно). Как вас понимать?
Гиацинтов. Как режиссера. Мы столько работали вместе. Тесно. Над главной ролью не трудятся дистанционно. Душа в душу.
Веточка. Костя, ты же это знаешь. Как Пигмалион. Я довольна, что у нас получилось. Ты – разве нет? Не надо дуться.
Гиацинтов. Пожалуйста, успокойтесь. Я бы на вашем месте… (Замешкался, подыскивая слова.) Не огорчайте Веточку. Ей надо оставаться в тонусе. Все образуется. Хотите, приведу десятки примеров, когда муж и жена в разных профессиях: Алла Демидова, Леночка Проклова, Марина Неелова… Русланова, Тарасова, Румянцева…
Веточка. Вот видишь!
Костя. Разве дело в этом?
Гиацинтов. Сегодня другой театр, зритель не тот. Представьте, любая из вышеназванных актрис сыграла бы сегодня в костюме Евы у меня в спектакле.
Веточка (прыснув). И Тарасова Алла Константиновна?
Гиацинтов. При коммунистах – нет. А без этих кальвинистов при ее фигуре, в соответствующем возрасте, – сколько угодно. В том же «Дяде Ване».
Веточка. Любопытно бы глянуть. Анна Каренина в постели с Вронским.
Гиацинтов. Самойлова у Зархи с Лановым – почти.
Веточка. Так это в кино. На голубом экране. Это не живое.
Гиацинтов. Уважаемый Константин! Останемся друзьями. Перешагните через себя. Вы же ученый. Будьте ироничны к обстоятельствам бытия. Мы – дети природы. Рабы сновидений и наваждений. Радуйтесь шагаловскому полету Веточки. Будьте третьим.
Веточка (мягко, с иронией). Не будь эгоистом.
Гиацинтов. Дотерпите до конца премьеры. Елена уедет из усадьбы без профессора. Войницкий и Соня увидят небо в алмазах. Они отдохнут в объятиях друг друга как нежные преданные любовники. Это никакое не кровосмешение. Они родня, но седьмая вода на киселе. Чехов на это не решился, оставив безжалостно страдать. А я от этого избавил. Их несчастья останутся позади.
Веточка (с улыбкой, иронично). Почему бы нет. Это так честно, по-христиански: возлюби ближнего.
Гиацинтов (сдерживая смех). По-христиански…
Костя (в шоке). Бедный дядя Ваня сойдется с Соней. Как просто, как все гениальное. А герр профессор обвенчается с маман. Чем не пара!
Гиацинтов (иронично). Это мысль.
Костя. Главное, завтра приезжает Поцелуйкин. А через день он увидит премьеру…
Потом по-домашнему пили чай. Приводили примеры иронии в чеховской драматургии. Соглашались, что вся она насквозь иронична, вызывая улыбку сквозь слезы. Гиацинтов делился новаторскими планами, продолжая традиции Мейерхольда, собираясь поставить «Вишневый сад», где все персонажи, кроме Раневской, будут в масках. Не мыслил постановку без Веточки, обещая заметную роль. Предлагал попробовать Константину. Для начала, скажем, в роли прохожего. Тут же по ходу фантазировал: навьючим, как дачного мужа, бесчисленными пакетами и коробками. Пока минует сцену, будет их ронять много раз и уморительно подбирать с помощью Раневской и остальных. Веточка смеялась, Костя улыбался, представляя такую сцену. Веточка – Аня или Варя, а он – вьючный мул. Гиацинтов, фантазируя, начинал испускать космическую энергию, подчиняя своей воле. У Веточки глаза округлились и светились, как у ведьмочки. За спиною у нее вырастали крылышки, белые и лучистые. Костю теперь это беспокоило, тревожило и не устраивало. Корил себя за эгоизм и мещанство. Но не получалось повторить за чеховским Кулыгиным – мужем Маши из «Трех сестер», полюбившей подполковника Вершинина: «Жена моя хорошая, славная. Удивительная женщина». Молитвенно сложив руки, повторяешь с утонченной чеховской иронией: «Я доволен, я доволен, я доволен». Он не знал, что ему делать. Премьера накатывалась многобалльным штормом.
А в Питере уже сел в поезд многоуважаемый патрон и пересмешник герр академик.
Утром за день до премьеры местным поездом подъехал Поцелуйкин. Увидев у вокзала афишную тумбу с анонсом «Дяди Вани», тут же запечатлел на мобильник. Засыпал Веточку вопросами не любопытства ради, а с научным уклоном. Пытался нащупать элемент сновидений в работе над ролью. Предвкушая удовольствие лицезреть Веточку на сцене, оценить глубину погружения в образ. Сам он постоянно пребывал в научном поиске, отыскивая сексуальные корни в мотивации поступков. Находил их в походке, движении бедер, поворотах головы, взглядах, интонации речи, рукопожатии, влажности губ, глаз, ладоней…
За завтраком, усадив Степку к себе на колени, намазал свой указательный палец вареньем, предложил облизать. Веточка с Костей понимающе переглянулись. Но Степка, подумав, в рот палец не взял, а смазав на свой розовый пальчик, слизнул язычком. Академик тут же, не без иронии, поставил диагноз, что Степка не склонен к эротомании и будет умеренно сексуален, т.е. склонен к науке, а не к искусству. Костя, посмеиваясь, был доволен. А Веточка, подумав о себе, решила, что при таком эксперименте накинулась бы на палец, не смазывая сладкое на свой.
Академика Костя увез на местные минеральные воды с ночевкой. Веточка закрепляла состояние по сценам.
Где-то около полуночи позвонила Раиса Худых узнать, нет ли у них Филиппа. «Обзваниваю всех знакомых, – делилась беспокойством Раечка. – Утром они были в театре. Потом отпустил ее домой. Сам остался с цеховиками. В сотый раз проверяли спецэффекты, реквизит, свет, звук. Потом звонил и сказал, что заскочит в министерство. Там не появлялся. С тех пор ни звука. Как в воду канул».
XVI
Беда
Днем вернулись Костя с Поцелуйкиным. Академик напевал: «Я помню чудное мгновенье…» «Неужели гусарил?» – сквозь грусть подумала Веточка. Ночью она, не выдержав, звонила Раисе. Гиацинтов не объявился. Ни утром, ни днем, ни вечером.
Премьеру играли без нее. Елену изображала Худых. Зрелая, опытная баба терзалась девичьими страхами. Астровым представлялся ветеран Савва Трутень – вечный скиталец по провинциям. Спившийся ходок, не способный вызвать капли страстных чувств. Без ее Елены все пошло не так. Двигалось по замыслу режиссера. Но без нерва. Астров жонглировал не тарелками, а мячиками. Потому что тарелки, падая, гремели. А шарики бесшумно раскатывались. Елена выбегала в ночной сорочке, мелькая красными пятками. Это было пошло и унизительно. Но зритель вызывал на «бис», дарил гвоздики. А вместо Филиппа на финальный поклон выходил директор, тоже кланялся и целовал сияющую Худых.
Милиция объявила розыск и опрашивала всех, с кем общался Гиацинтов. Веточку вызвали в горотдел, где она столкнулась с Раисой. У той были припухшие глаза. Кто ее еще будет звать обезьяной? С Веточкой беседовали часа два, ориентируя на возможные адреса, куда бы мог отъехать режиссер. Что она могла назвать, кроме мест, где он готовил спектакль!
У Кости она, не выдержав, сквозь слезы спросила: «Что ты с ним сделал? Задушил, зарезал, утопил?» Костя, бледнея, возмущался: «Ты ненормальная. Вот этими руками. Ими курицы не зарезать».
Прошел месяц, два, полгода. Веточка не находила себе места. Ночью шептала мужу на ухо: «Скажи, куда ты его упрятал? Зачем? Ты же гипнотизер». Но Костя, нежно обнимая, зажимал губами ее губы, убеждая, что Филипп Додонович жив, что люди искусства редкие фантазеры и их часто заносит неизвестно куда.
Через месяц после исчезновения Филиппа Веточка записала строчки:
Там какое-то августа от конца отсчитать,
загустевшее, жадное… Без стыда запивать
алкоголем соленое послевкусие слов.
Сбита пена.
По памяти отпечатки голов
на подушке истерзанной, на живой простыне,
простодушное, нервное: «Ты вернешься ко мне?»
К весне накопилось новое. Оно по слову выстроилось на листе:
Любви моей трепещущее тельце
я резала нарочно без наркоза,
кромсала в кровь. Но некуда мне деться
от крика жертвы. Поджимают слезы.
И проткнутый безжалостным зубилом
раскаянья, так день нелепо кончен,
как будто я ребеночка убила,
а врач сказал: «У вас не будет больше».
Стихи приходили из космоса, прорвав блокаду атмосферы, каленое сопротивление воздуха, выпариваясь капельками пота с горчинкою на вкус.
Спустя год после несбывшейся премьеры возникло и такое:
…Еще взглянуть: в углу оставлен веник,
Разбита чашка… Почему, зачем?
А дальше – будет полное забвенье
И пустота. И ничего взамен!
Константина стихи трогали, и он, украдкой вздыхая, говорил, какие они настоящие, единственные, идущие из глубины. «Как ты выросла, работая над ролью, обогатила чувства, поднялась духовно. Спасибо Филиппу, его таланту, масштабу личности». Про себя задумывался: было между ними что-то, кроме репетиций, или только творчество. Лирика Веточки его успокаивала, как психоаналитику ее духовность говорила, что сублимация сексуальной энергии не успела материализоваться физически. Это подтверждали примеры жизни Пушкина, Ахматовой, Цветаевой… Влюбляясь, а они влюблялись постоянно, создавали шедевры, покоряющие чистотой. А близость случалась потом или, что касается поэтесс, почти не имела места. Разрешить сомнения, спросив Веточку при удобном случае, он не решался, понимая, как это глупо и бестактно. Да и о чем говорить, когда Гиацинтова нет. Понимая состояние жены, Константин сделал подборку ее стихов и отправил в питерскую «Звезду», достойный, уважаемый журнал. Их опубликовали, а он радовался, будто сам был автором.
Утрата становилась историей, хотя милиция продолжала поиски. У горотдела на доске объявлений в рубрике «Разыскиваются» сохранялся фотопортрет Гиацинтова в цветном исполнении, учитывая личность пропавшего. Говорят, его портреты, но попроще, разместили по всей России. По специальному ходатайству Министерства культуры к поискам подключили Интерпол. Раиса Худых, дружившая с Игорем Квашой, обратилась к передаче «Жди меня» и выступила с обращением к россиянам, показав портрет и уточнив приметы: походку, поворот головы, привычку держать руки за спиной, сцепив пальцы замком. Костя этот шаг одобрил, напомнив Веточке примеры, когда пропавших, потеряв надежду, находили за тридевять земель, лет через двадцать, а то и больше. Веточка, зная манеру мужа подпускать любимую иронию, обижалась, упрекая Костю в равнодушии к чужому горю. «Человек пропал, почти гений, а ты комедишь». Она перестала посещать местную «драму», появлялась лишь на музыкальных спектаклях. А на пьесы ездила в Питер, совмещая со встречами с Поцелуйкиным.
Постепенно она успокаивалась, перестала принимать снотворное, сбиваться неожиданно с мысли и раздражаться из-за плохо вымытой Костей посуды. Лето они проводили на даче в Заозерье, подкармливая комаров свежатинкой. Веточка увлеклась рыбалкой, а Костя срезал грибы. Какой отпуск у ученых, когда надо двигать науку! Костя собирал докторскую, а Веточка корчевала подходы к своей. Поцелуйкин настаивал за основу взять подсознательное, работая над ролью Елены. Она пыталась, но ей было слишком больно. Погружаясь, она начинала волноваться и даже ронять слезы. Ночами она, случалось, бредила репликами несбывшейся Елены. Просыпаясь, Костя подметил, что все, в основном, касались Астрова. Она вскрикивала, кому-то доказывая: «Он непохожий на других, красивый, интересный, увлекательный, точно среди потемок восходит месяц ясный». Повышала голос, убеждала: «Да, без него мне скучно, я вот улыбаюсь, когда думаю о нем. Поддаться обаянию такого человека, забыться»». Она спала, но с открытыми глазами, и это впечатляло Костю, скорее не как мужа, а как ученого. До каких же глубин подсознания Веточка сроднилась с ролью. В полумраке он не видел ее глаз, чтобы фиксировать пульсацию мысли, но оттенки интонации поражали глубиной искренности. Как жаль, что ее не услышал зритель. Она почти выкрикнула, комкая одеяло, ту самую сокровенную фразу: «Дать себе волю хоть раз в жизни!.. Улететь бы вольною птицею от всех вас, от ваших сонных физиономий, от разговоров, забыть, что вы существуете на свете…» Костя искренне жалел, что он единственный зритель сомнамбулического монолога. «А может быть, сцена, а не наука ее истинное призвание», – подумал он на какое-то мгновение. Но тут же себя одернул, отдав предпочтение науке.
Через какое-то время снова грезила пьесой, восхищаясь личностью Астрова, бормоча с чувством текст диалога с волей: «Это талант! Что значит талант?» Тут она почти выкрикивала: «Смелость, свободная голова, широкий размах… Такие люди редки. Их нужно любить». «Любить» – она повторяла с такой нежностью, что Костя забывал, кто он есть и полезно ли ему такое слышать.
Года через два после ЧП с Гиацинтовым Веточку еще посещали болезненные тени. Не просыпаясь, она отрывалась от подушки и, отмахиваясь руками, трогательно умоляла: «Пощадите, оставьте меня. Нет! Пустите!» Роняла голову и шептала: «О, я лучше и выше, чем вы думаете. Клянусь вам!» Закрывая лицо руками, умоляла: «Пощадите… оставьте меня… Это ужасно». Костя осторожно ее успокаивал, нашептывал на ухо: «Не надо волноваться. Я рядом. Успокойся. Это только глупый сон». Утром признавался, иронично улыбаясь: «Ночью ты опять играла сцены из «Дяди Вани». Представь, замечательно. Поверь, я искренне жалею, что ты не вышла на премьеру». Она всякий раз повторяла: «Глупости. Ты бы меня разбудил. Болтаю какую-нибудь ерунду». Но Костя посмеивался: «Представь, все по тексту. Он засел в твоем подсознании». Она отвечала в том же тоне: «Попала в зависимость от Чехова, и надо обратиться к психотерапевту, чтобы снял порчу». А он не удержался от мысли: если бы только от Чехова.
Подобных сновидений постепенно становилось меньше, и Костя радовался такой динамике. Но как-то после дня рождения Степки, когда Веточка запила коньяк шампанским, не просыпаясь, закричала: «Завтра в лесничестве. Полуразрушенная усадьба – тургеневская… Это неизбежно… Куда ни шло – раз в жизни. Мне не страшно. Рано или поздно. В омут… Буду вспоминать с удовольствием…»
Костя не поленился и тут же ночью с научной педантичностью сверился с пьесой… Предположения оправдались. Текст Елены был перемешан фразами Астрова. Его это огорчило. Успокоил себя сроком времени: даже Веточка могла ошибаться.
Она искала Гиацинтова в Интернете. Почти сразу, как он исчез. Кликала, кликала, двигая «мышку», – безрезультатно. Но машинально продолжала поиски. Вдруг объявится, подаст сигнал SOS. Искала по фамилии, названию спектаклей, театрам разных городов и стран. Года через два наткнулась на сообщение, поселившее надежду. Кинулась к Косте, потащив к компьютеру. Он, перечитав, развел руками: «Ну и что! Достоевский шагает по планете. Только его и ставят. Его и Чехова. «Mad House» – «Дом сумасшедших» не то же самое, что «Дурдом». Совсем другой оттенок. Дурдом – бардак, а «Дом сумасшедших» – больница. Далеко не одно и то же». Веточка возражала, что все дело, очевидно, в переводе. На английском иначе не сказать. «Может быть, – соглашался Костя, – надо уточнить на инязе». Фил и Филипп явно не сходятся. Фил – это Фил, а Филипп – другое имя. Его так не сокращают. Он, во всяком случае, не слыхал. «Но фамилия, фамилия, – горячилась Веточка, – наш Филипп ее просто упростил». Костя не возражал: «Допустим: Гиацинтов и Huaein – похоже. Но если это он, почему молчит? Не дает о себе знать. Видно, ему так надо». Веточка, подумав, умолкала: «Это не Филипп!»
Вскоре, сдерживая слезы, записала строчки:
Еще я буду вспоминать
Все то, что с нами не случилось,
Не склеилось, не просочилось.
Чужой вокзал и города,
Где мы не жили никогда…
И еще:
…Все то, что не случилось с нами,
Еще я буду вспоминать
Как лучшее из этих дней,
Подаренных судьбой не мне…
И потом еще:
… И неизвестные страницы,
Листая вспять – опять, опять,
Еще я буду вспоминать.
На зимние каникулы за небольшие деньги они слетали отдохнуть в Эйлат, отправив Степку к родителям. Их озеро затвердело камнем, а в Эйлате не было чем дышать. Ныряли в прозрачное море, не Красное, а синее, как купол неба. Почти касались рыб, больших, но красивых, как в аквариуме. Веточка часто улыбалась, даже беззаботно смеялась, позабыв обо всем. Костя, видя это, взбивал морскую пену, устраивая фейерверк из брызг.
Ночами они спали не укрываясь, вспоминая забытый медовый месяц. Остаться бы навсегда в Эйлате! Но труба звала в Чухлому. Как-то сказала Косте, как могла беззаботней, что отсюда до Новой Зеландии какие-то пятнадцать часов лету. Костя улыбнулся: «Занесло человека». Он знал, что время лечит. Старался быть как можно внимательней.
В самолете она загрустила.
Дома ушли в работу и домашние заботы. Упросила академика подобрать другую тему докторской. Подальше от актерского лицедейства. Ей он не мог не уступить.
Семестры отщелкивали время. Оно неслось скачками. На новогоднем вечере прилюдно и наглядно два титулованных ученых схватились врукопашную из-за супруги декана; студентка сошлась с семейным доцентом; после занятий запирали на ключ аудитории, чтобы храм науки не стал домом свиданий; вспыхивали романы, угасая пеплом, жизнь клубилась дымкой увлечений. Женщины, нарушая закон фауны не выделяться на фоне природы, ускользая от внимания хищников, делали все, чтобы стать их добычей. Модничали в одежде, всесторонне макияжились, обкуривались духами, забрызгивались дезодорантами, наращивали ногти, укладывали прически неопрятными прядями.
Веточка, отдавая дань моде, избегала вызывающих излишеств манекенщицы на подиуме. Коллега Кости, остепененный Василий Попков, на одной из научных конференций в перерыве за буфетной стойкой, оглядывая жующих, заметил, что почти все заводят романчики, хоть дамы, хоть мужички. Ищут глазами, на ком бы остановиться. Костя возражал: «Чушь. У тебя пунктик». Но Василий насмешливо настаивал. «Свежие глазки с искорками чертиков раскроют, что они в поиске. А устойчивые, вроде студня, скажут об обратном». Костя верил и не верил в такую муть. Нет-нет да искал взгляд Веточки, пытаясь уловить нечто. Случалось, она сердилась, спрашивая: «Чего ты на меня уставился?» Он отшучивался, что она ненаглядная и ему приятно. Никакой куриный студень ее глаза, конечно, не напоминали. Они сохраняли нежность, глубину и многозначность. Прибавились устойчивость и задумчивая тишина. По-прежнему доверчиво улыбались, радовались приятному, интересному, неожиданному и, конечно, Степке. Но что-то в них потерялось, ушло и не возвращалось. Костя пытался подобрать слова: яркость, живость взгляда, быстрота реакции, ироничность, покоряющая притягательность. Все это вроде оставалось, но как-то притупилось, затаилось, как в матовой лампочке. Скорее, он этого не видел, но почувствовал рецепторами подсознания. Изменилось все после пропажи Гиацинтова. Стало таким, как до их знакомства.
Он снова разрывался на части. Муж и ученый схватились врукопашную. А тут еще Поцелуйкин подливал масло в костер. При очередной встрече попенял, как когда-то, что Веточка снова в минусе. Работает, старается, но без прежнего азарта. «Киснет девочка», – ворчал академик. Глядел на Константина с заметным подозрением. Не слишком ли тот отдался науке, позабыв о личной жизни. Передернул совет физиолога Павлова чередовать умственный труд с амурным. «Наука наукой, – гундел Поцелуйкин, – ты и так опережаешь график. Развернись лицом к супруге». Хохотал, как Мефистофель, потряхивая, как тюфяк, Костю. «А лучше дай ей волю. Пусть прыгает. Гляди – глазки заблестят. Не киснуть же такой лапушке. Господь не простит. Она тихоня, глазками не зыркает, как другие смазливые бабочки. Помог бы нашей неваляшке. Покопайся снова в вашей навозной куче. Поищи в Чухломе доморощенный алмазик вроде режиссерчика. Рискни. Как учуешь утечку сублимации, обрати алмазик в пыль. Ты же на это мастер». Сделав долгую загадочную паузу, спросил как о повседневном: «Куда режиссерчика дел? Как загипнозил? Поделись по-свойски».
Они не посещали бассейн, барахтались в теплой ванне. По выходным ставил Степку и Веточку на лыжи. Это ее румянило, и только. Пытался приучить к сауне, что выстроил у себя в коттедже народный целитель, друг юности Лев Перевалкин. Но Веточка не любила париться, хоть с веником, хоть без, придерживаясь нижней полки, избегая вершин удовольствия.
Костя ждал, что активный образ жизни приведет к замещению потери и возврату прежних увлечений. Потянет к заброшенному альбому, где появятся новые наброски. Но альбом затаился в шкафу, а точилка не острила карандаш. Он показывал старые рисунки Степке так, чтобы это видела Веточка. Она глядела, будто на чужое, не имеющее к ней отношения. Иногда, словно вспомнив, улыбалась.
Не без труда вытаскивал Веточку на университетские вечера, куда она раньше охотно ходила. Там играл ее оркестрик, где когда-то она стучала на ударнике. Руководил по-прежнему математик Федя Одноручкин, уже седеющий, но такой же чокнутый. Видя Веточку, всегда тащил ее на эстраду взбодриться и, как раньше, похулиганить. Но она, не без улыбки, отнекивалась, находя какие-то отговорки.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Следующий
Года через три после исчезновения режиссера, когда весна безвозвратно разобралась с холодами, они, как делали обычно, всем семейством собрались на стадион. Костя вытащил с антресолей Веточкины шиповки, предложив открыть сезон на беговой. Он напомнил, как она ждала весны, чтобы промчаться по гаревой дорожке. Но Веточка надела кеды, и они отправились в Парк культуры, где весну встречали родители с малышами и любители тишины – пенсионеры. Костя, не выдержав, поинтересовался: «Сколько лет будет продолжаться траур? В стране ежедневно, по статистике, пропадает четыре тысячи человек. Но жизнь идет, не останавливается. Спектакли ставятся, время берет свое, и актрисы сами набиваются играть в костюме Евы.
Веточка не стала спорить, объяснив, что ее все устраивает: успешно трудится, ведет дом, активно отдыхает и чувствует себя комфортно! С этим было трудно спорить. Все складывалось как надо: надежно, спокойно, устойчиво. Но что-то было не так. Веточка оставалась его болью и такая, какой стала, тревожила. Ему хотелось для нее вечной радости. Не тусклого спокойствия повседневности, а тех самых чертиков в глазах, бешеных раскатов ударника, иронии комических превращений… Он снова оказался в лабиринте, где имелся, как положено, один-единственный выход. Надеялся на «нить Ариадны», способную вывести на свет.
На Веточку надеяться не приходилось. Имея общительный характер, она тесно ни с кем не сходилась, оставалась «вещью в себе», но без тени высокомерия, не умея сближаться накоротке. Всем верила, даже цыганкам, но держалась особняком.
Костя подыскивал варианты, не имея, как прежде, широкого выбора, проверяя индукцию энергетики кандидатов на себе. Да еще хотелось разумного сочетания таланта со сдержанностью характера. Перебрав несколько вариантов, остановился на местном художнике Михаиле Мякишеве – пейзажисте и портретисте, не чуждом элементам авангарда. Как это выглядело практически, Костя видел в мастерской художника под крышей многоэтажки, откуда открывалась панорама Заозерья. Внимание привлекла картина «Кони на лунном пленэре». На холсте изображались натуральные лошади, но паслись они на лунной корявой поверхности, опуская морды в лунки кратеров.
Но имелись полотна без изысков, привлекающие спокойным колоритом, без излишества краски. Мякишев сам собою выглядел живописно: коренаст, кривоног, лохмат прической и самим лицом. Сквозь щетину проглядывал крючок носа, ярко-красные валики губ, голубые просветы глаз. Ходил он рысцой, но при этом вразвалку, как бывалые мореходы. В любые морозы в потертой курточке и обязательно без шапки. Было в нем что-то дикое, самобытное, что привлекло Костю. Имелась жена, на две головы длиннее. Глядела на мужа с обожанием со своей колокольни. Правда, он этого не мог видеть. В городе считался классиком, выставлялся в Питере, Хельсинки, иллюстрировал книги.
Вскоре представился повод для знакомства Веточки с художником. В городской картинной галерее открывалась его персональная выставка. Она пошла на презентацию. Народу собралось много. Интеллигенция Мякишева жаловала, «Лошадей на луне» и тому подобное. Веточку некоторые работы впечатляли. У картины «Портрет жены художника» она задержалась надолго, пытаясь вжиться в образ, понять что к чему. Видела и раньше разные портреты авангардистов, кубистов, абстракционистов, угадывая, как в сложном ребусе, где нос, уши, глаза, пока ей не растолковали, что их портреты не надо рассматривать предметно, как полотна Крамского, Рембрандта или Репина. Достаточно общего впечатления и ощущения натуры. Узнать жену Мякишева по изображению на портрете было, естественно, невозможно. На ярко-синем фоне во всю длину был изображен жгут из множества переплетенных разноцветных волокон с васильковым глазом посередине и черным ухом над ним. У картины задерживались, останавливали дыхание, тактично охали, ахали и шептали комплименты. Веточка пыталась ощутить нечто, понимая, что видит, как ее учили, не жену Мякишева, а его ощущение супруги. Оно было неоднозначно и любопытно, будило воображение. Сама себе признавалась: «Непостижимо». За спиной услышала голос Кости: «Веточка, познакомься с автором».
Она оглянулась и увидела голову первобытного человека. Он протянул квадратную ладонь и представился: «Михаил, по отцу – Саврасович». Глядел, не отрываясь, в упор, фиксируя ее взгляд. Она окунулась в синеву летнего озерного простора. Исчезло лохматое обрамление, открыв наивного ребенка. Кого-то это ей напомнило, и она тут же представила Филиппа Гиацинтова. Их первую встречу в ВТО. Тогда их взгляды примагнитились без всякого причинного смысла. Сейчас это повторилось. Подумала: «Какое забавное отчество. Неужели он на всех так смотрит?» Художник вглядывался с полминуты, облучая подсознательной синевой. Сказал спокойно, без эмоций: «Я буду вас писать. Это необходимо. Как, пока не ощущаю. Не откладывая. Начать можем завтра». Веточка быстро взглянула на Костю. Тот отвел глаза.
II
Живописец
Мякишев писал Веточку почти два года. Он обычно работал тщательно, но не всегда так долго. Никак не давался прочувствованный им вариант. Не складывался рисунок, не ложились выразительно линии. Все его не устраивало, не стыковалось с натурой. Она его так впечатлила, что не хватало таланта выразить. У него опускались руки. Признавался Веточке, оглядывая потемневшими глазами, что все, что он пишет, слишком мелко, размыто и путано. Она его искренне не понимала.
Мякишев рисовал натуру, следуя формам оригинала, как художники старой школы. Потом наносил на холст собственные ощущения от модели. Не придерживаясь анатомических особенностей фигуры. Пластические знаки выражали на холсте его внутреннее состояние от натуры, которым он проникался подсознательно.
Веточка, по просьбе Михаила, позировала всю рабочую неделю по два-три часа в день. Это ее утомляло, отрывало от повседневных дел. Осводившись, не раз спорила с художником, к чему она ему, если пишет не ее конкретно, а нечто. Да еще так нестерпимо долго. Хватило бы месяца ее наизусть запомнить, а потом писать по памяти. Но Мякишев, в отличие от Гиацинтова, оставался лохматым ребенком. Он не дружил с иронией. Объяснял Веточке терпеливо, что зависит от модели постоянно. Ему необходимо повседневное общение, как актеру присутствие партнера. Работая, получать живое впечатление от взгляда, улыбки, мимики. Особенно, намекая на ее достоинства, когда модель не кукла. Она насмешливо возражала, что женщины на его портретах так же похожи на себя, как она, скажем, на него. Он, не споря, соглашался, не скрывая улыбки: если бы такие страшненькие встретились ему на улице, он бы бежал без оглядки. Но тут же серьезно добавил, что он создает не женщину, а картину, уточнив как важнейшее правило: точность – не есть истина. Истина – его чувства. И они не в зеркальном отражении, а фантазия его воображения. Она и он сливаются на полотне. Добавил для убедительности, что яблоки, которые он ест и пишет, – разные яблоки. Для еды его интересуют спелость и качество, когда пишет – форма и цвет. Веточке сравнение понравилось, и она согласно закивала.
Мякишев ее посвятил в тонкости незнакомые и заманчивые. Для него характер рисуемого лица не зависел от пропорций, формы головы, ушей, разреза глаз, длины рук, пальцев, округлости бедер. Все во внутреннем свечении модели, отраженного в нем самом.
Частые сеансы их сближали. Устанавливалось понимание и взаимность. Мякишев работал углем, делая бесконечные наброски. Дергал Веточку, как куклу, менял постоянно позу. Не устраивали поворот головы, положение рук, прическа. Части тела ему мешали в создании гармоничной композиции. Жаловался Веточке, без тени иронии, уставясь наивными безоблачными глазами, что все по отдельности в ней замечательно: и лицо, и шея, и руки, и фигурка, а составленные вместе дополняют сами себя. Для другого такое признание выражало однозначный комплимент, а у Мякишева выглядело сомнениями профессионала. Она, замечая, как ему трудно, душевно переживала, не зная, чем помочь. Он начинал злиться, объясняя, как она ему мешает своим участием в его проблемах, создавая какую-то завесу, не позволяющую ее чувствовать. Просил во время сеанса не думать о нем, а погружаться в себя, размышлять о своем, оставаясь самой собой.
Обычно молчаливый и даже угрюмый, за работой становился разговорчивым и доверчиво откровенным. Со стороны это напоминало не формальную беседу, а искреннее проявление чувств. Неотрывно вглядываясь в Веточку, просил не отводить взгляда, смотреть не оборачиваясь, не беспокоясь, ничего от него не скрывая. Поначалу это ее смущало, хотя не могло не тронуть. Кому неприятно услышать про свои «прекрасные изменчивые глаза, что вчера казались коричневыми, сегодня чудесно изменились и стали иного цвета. А какие они на самом деле?» Она, помня его рассуждения, удивляла ответом: «Как у вас. Раз вы видите меня своими». Он признательно, чуть заметно улыбался, радуясь ее пониманию. Но тут же по-своему растолковал, почему глаза ее становились темнее. Оказывается, когда лицо розовело от душевного волнения и прилива крови, а он-то как раз ни при чем. Но разная гармония ее глаз, губ и нежного изгиба подбородка создают удивительное ощущение прекрасного, которое он не в силах передать. Таких откровенных признаний она еще ни от кого не слышала. Смотрясь дома в зеркало, разглядывала лицо подробно, пытаясь почувствовать ту самую гармонию глаз, губ и нежного изгиба подбородка. О таком ей не говорили ни Костя, ни Гиацинтов. А лохматый синеглазый живописец почувствовал и выразил в словах. Мучается, что не может передать в рисунке. Не будь перед ним листа ватмана, а в руке угля, она приняла бы его слова за признание. Но художник был в работе, и все могло выглядеть иначе. Это напомнило репетиции с Гиацинтовым, когда возникало раздвоение Астрова и Филиппа. Неужели и сейчас такое? Она прислушивалась к интуиции, ожидая надежной подсказки. Это ее притягивало и пугало одновременно.
Художник, продолжая разговор, очень ее тронул, назвав миленьким испуганным птенцом в его рисующей руке. Он доверительно признавался, как все пишет по ощущению. Не только живую натуру, но и любой предмет: стол, дерево, яблоки. Как-то написал помидоры синими. Друзья удивлялись почему, а он их такими почувствовал. Но тут же добавил, чтоб не приняла за пижона. Не он один. Многие. Матисс, например.
Наброски портрета ей не показывал, объясняя, что это черновики. Косте – тоже. Если тот хочет иметь портрет, схожий с оригиналом, чтобы радовал его и близких, пусть закажет его Шилову или ему подобным. Или сделает в приличном ателье хорошие цветные фото в рамочке 24х36.
Веточка его понимала, но с иронией кокетливо интересовалась, не окажутся ли ее глаз на щеке, а нос на лбу. Михаил успокаивал: он модернист, но не признает абстракцию, хотя, как говорил, не придерживается анатомических пропорций. Может не выписать уха, но с носом местами не поменяет.
Ей нравилась его одержимость. Через год с небольшим он закончил картину в цвете. Сказав об этом, добавил – это лишь часть работы. Потребуется еще год, чтобы избавить портрет от лишнего, превратив его в сущность. Когда нельзя будет уже изъять ни одного цвета, ни одной линии. Он показал ей другой портрет, где положение руки менял пятьдесят раз. Она увидела следы резинки на картоне. Местами он был протерт насквозь.
III
Новая роль
В мастерской попахивало краской. От Михаила – тоже. Это Веточке не мешало, а со временем доставляло удовольствие. Она решила писать маслом. Рисунок ей давно давался: легкость линии, понимание перспективы, ощущение пространства. Она погрузилась в мир красок и сопутствующих им предметов. Михаил подсказывал, давал советы. Был доволен такому повороту. Ей открылись незнакомые слова и таинственные обозначения понятий. Кисти оказались разноликими, каждая для своей задачи, с именными порядковыми номерами. Одни из свиной щетины с округлым концом, другие с заостренным, третьи с прямоугольным… У каждой свое предназначение. Заостренные – для написания линий, округлые – для облаков, прямоугольные – изображения зданий… Имелись кисти нейлоновые и самые дорогие – колонковые – из меха сибирского зверька. После работы их полагалось тут же мыть и сушить вверх щетиной. Кроме кистей, Михаил показал Веточке мастихин – небольшой ножик и шпатель для смешивания и нанесения краски на полотно. Шпатель давал плотные мазки, а мастихин – рельефную поверхность. Михаил показал, как грунтуется холст, делая его шероховатым, чтоб лучше удерживал краску. Если загрунтовать бумагу – можно писать и на ней. И вообще на чем угодно, если как следует подготовить. Вооружил мольбертом и палитрой, обычной тарелкой или куском картона, где можно смешивать краски. Сам он почти не смешивал, подбирая натуральные цвета. Пользовался всего двенадцатью. Но ей пока не советовал. Начинать лучше традиционно, подбирая нужные оттенки. Она представляла, что писать маслом сложно, но никак не настолько. Она попала будто в сказочное подземелье бажовской хозяйки Медной горы. Читала об этом рассказы позабытого нынче писателя.
Она знала лишь семь цветов радуги. Но это не могло сравниться с возможностями красочных совмещений. Она не разучилась удивляться, и новое, как девочку, захватывало. А Мякишев превращался в волшебника, открывающего удивительные незнакомые краски жизни. Для начала он показал ей стартовый набор художника. Тюбики белил титановых, кадмия желтого, краплака розового, кадмия красного, ализарина малинового, французского ультрамарина, зелень Гинье, умбру жженую, сиену натуральную и еще множество. Вот из этих сочетаний воображение гениальных Леонардо, Веласкеса, Тициана, Рембрандта, Репина, Левитана рождало бессмертные полотна. Веточка перебирала краски и замирала от детского восхищения.
Всего из семи нот Рахманинов создал второй концерт для фортепиано, Бетховен – девятую симфонию, Чайковский – шестую, Шостакович – пятую… Из тридцати трех букв русского алфавита Пушкин сложил «Евгения Онегина», Лермонтов – «Демона», Булгаков – «Мастера», – так думала Веточка, чувствуя себя Колумбом накануне великих открытий. Мякишев, смешивая цвета, показывал ей симфонию оттенков, раздвигал горизонт творчества. Для начала учил азам. Кадмий желтый светлый, похожий на лимон, хорошо сочетался с другими красками. Краплак розовый примешивают для натуральности, используя в написании цветов; французский ультрамарин в соединении с умброй желтой дает глубокий черный; церулеум в сочетании с желтым полезен для оттенков неба и летней богатой зелени, – добавив белил, Михаил создавал тончайшие оттенки. На ее глазах возникали неожиданные цветовые превращения: желтый кадмий осветлялся до прозрачности; мрачноватый ультрамарин становился воздушно-синим; краплак розовый – фиолетовым; кадмий красный – светло-коричневым; зелень Гинье – цветом первой листвы… Веточка ждала новых красочных превращений, как ребенок чудес фокусника. Мякишев без улыбки священнодействовал, получая красочную иллюминацию. Веточка уяснила три изначальных цвета: желтый, красный, синий. Составила таблицу производных, вживаясь в живопись профессионально. Она не уважала дилетантов.
Дома запахло краской, скипидаром и уайт-спиритом. Появился мольберт на треноге с колками для натягивания холста. Костя новинкам радовался как признакам возрождения. Его Веточка увлеклась и снова оказалась в форме. Он принюхивался к новым квартирным запахам, втягивая непривычный воздух. Степка тоже реагировал активно на перемены, пытаясь добраться до красок. Веточка, усаживаясь за мольберт, обещала приобщить семью к живописи, научив писать маслом. Разумеется, чуть погодя, когда чуть продвинется сама. Захотела изобразить Степку, но в красках пока путалась, решив начать опыты с яблока. Выбрала на рынке покрасивее, уложила на подставку против света и начала изображать. Яблоко ей нравилось не только аппетитным видом, но и ощущением прекрасного. Сглотнув потребительскую слюну, она взялась за кисть. Помня советы Мякишева, не стала отдаваться ощущениям, а решила придерживаться натуры. Точной копии фрукта. Измазала всю палитру, подбирая нужные цвета. Если б писала по воображению, было б куда легче. А натура не позволяла вольности. Яблоко вырисовывалось, но не то, что она купила. Два дня ничего не выходило, пока, наконец, проклюнулось. К лимонно-желтой добавила титановых белил и французский малиновый ультрамарин для розового бочка. Семья подтвердила: похоже. Рисунок поставила сохнуть, и натуру на радостях съели. Веточка, в отличие от профессионалов, еще не отличала натуру от предмета потребления. Картина два месяца сохла. Потом ее покрыли лаком и вывесили над Степкиной кроваткой. Первенца к первенцу.
Работа маслом Веточку увлекла, пожалуй, не меньше, чем репетиции «Дяди Вани». Там были свои ухабы, здесь не менее крутые, но требующие одного – передачи чувств, игры воображения, только разными средствами.
За яблоком последовали иные фрукты, потом цветы. Сначала по одному, затем в букете, в вазах разной формы и цвета. Все требовало своего рецепта для оттенков. Она не топталась на месте, а усложняла задачи. Написанное показывали Мякишеву. Тот оглядывал картины, требовал предъявлять натуру, с которой они написаны. Хотел поставить технику, закрепить точность, глазомер. Иногда оставлял картину на ночь, чтобы утром проверить впечатление. Подражал кому-то из великих. Веточкины опыты одобрял, не без десятка замечаний. Советовал не бояться смешивать или писать поверх краски. Говорил, что она с ними дружит, неплохо чувствует оттенки, а главное, их отношение к свету. Советовал писать побольше, обязательно одно и то же, но при разном освещении. Свет придает им другие роли, как актеру новый текст. Сам он, начитавшись о Рембрандте, все называл портретами: писал портреты стульев, стола, дома, деревьев и, естественно, людей. Веточка, ему подражая, свои натюрморты так и называла. Разумеется, не без иронии: портрет чашки с тарелкой, кошки с котятами. Все это ее забавляло. Каждый мазок был как слово в строчках ее стихов. Они посветлели и приукрасились:
Все прозрачнее, легче
В раме оконной светопись дня…
Ранняя осень все-таки лечит,
Лучше лекарства лечит меня…
Мякишев советовал писать побольше, развивая глаз и руку, чаще бывать в Эрмитаже, но с подрамником и мольбертом. Разрешение он ей получит. Полезно копировать корифеев. Там есть много компактных шедевров.
Когда она ездила к Поцелуйкину, говорила об этом Михаилу. Они уезжали вместе и неспешно бродили по Эрмитажу. Это были увлекательные путешествия, захватывающие и неповторимые. Мякишев общался с шедеврами с уважением, но без подобострастия. Был с ними на равных, как с друзьями, а не с высшими по рангу. Даже покритиковал несравненную «Данаю» Рембрандта, назвав чересчур бабистой с непривлекательным лицом. Но картину в целом принимал, не скрывая сдержанного восхищения. Досталось даже «Мадонне Литта» Леонардо. Конечно, все невыразимо нежно и краски уложены плотно, но резкий свет доходил местами до грубости, незавершенность в лепке руки мадонны и складках ее туники у разреза на груди. Поддерживал версию, что это кисть не Леонардо, а кого-то из его учеников. Сначала Веточка считала, что Михаил кокетничает, выставляясь перед ней оригиналом. Но потом она для себя признала, как точно и детально он разбирается. У каждой картины он отмечал ее силу и промахи, кратко, точно, профессионально.
Она научилась «читать» полотна, давно знакомые и раньше незамеченные. Запомнила и поняла его термины. Потом ими уверенно пользовалась, приводя в Эрмитаж Константина. У одной картины говорила: «Яростная по свету, но холодная». У другой – отмечала, как прописаны волосы и вышивка на плече; у Перуджино живопись «жидкая», у Франчини – плотная; у Пасквалино Венето такой пурпур, такая синева, такая зелень, какой не найти во всем Эрмитаже. «Даная» Тициана слишком красива, Хосе Рибейра – чересчур густой, тяжелый, черный; у Вуэ – куски отличной живописи. Какая прозрачность темноты и горячие краски. Это вызывает аппетитные рефлексы; у Лемуана живопись гибкая, размашистая, веселая. Ватто – нервно внимательный во всех подробностях. Шарденом надо уметь любоваться. У него «вкусность», глубина.
Говорила все это уважительно, легко, как о родном, близком человеке: «насыщенность тона», «уверенная кисть», «бешеное брио», «изгибы мазка», «жирная живопись», горячая светотень, мягкая светотень, «утомительная шаблонность», «монохромный колорит».
Костя слушал и таял от удовольствия. Видел на лице просветленность мадонны и радовался новому возрождению. Кончилась пасмурная осень, вернулась светлая весна.
Веточка бегала на стадионе восьмисотметровку. Барабанила по воскресеньям в своем оркестрике.
Когда ее впечатляли картины, Михаил поглядывал на нее со стороны. Смотрел пристально, словно изучая, стараясь запомнить, сохранить в памяти. Это ей мешало, напоминая прошлое. Чего разглядывает? Разве не нагляделся у себя в студии? Или у него другой интерес? Неужели повторяется ситуация с Филиппом? Тогда не знала, кто она ему: персонаж пьесы или сама по себе. Снова история Галатеи и Пигмалиона. Михаил признавался, что для точности воплощения он должен слиться с нею, раствориться в ней, попасть в зависимость от модели, достичь бессознательного ощущения, страстного общения с ней в себе. На картине она может этого не увидеть, но для него здесь момент истины. Подумала как-то со светлой печалью, что чувство иронии не безгранично, когда упирается в природу вещей.
Михаил пригласил ее на пленэр, писать деревню, где он родился. Поехали поездом в Петрозаводск. Оттуда до деревни километров тридцать. Примостилась бочком у нешумного озера с шишечками островов на немятой равнине. Звалась деревенька однофамильно с Михаилом. Художник Мякишев, деревенька Мякишево. Михаил познакомил с маманей и папаней. Родительский домик напоминал избу из «Калевалы», разрисованный сыновней фантазией.
Наловили плотвичек, испекли рыбник, противень калиток. Естественно, пригубили чего-то доморощенного, не то на клюкве, не то на бруснике. За пейзаж уселись на раннем закате. Михаил писал тишину, а Веточка – мякишевскую «усадьбу». Иногда перебрасывались фразами, испытывая подсознательную близость. Веточка по-детски спросила, почему Михаил такой лохматый. Он не сразу, но признался: «Таюсь. Художники вообще волосисты». Помолчав, добавил: «Хотите, соскоблю?» Для него это было откровением. Признанием в чувствах. Она растрогалась и смутилась. Не хотела такого, а случилось.
Костя интересовался, как дела с портретом. Удивлялся срокам. Усмехался, что портрет не «Явление Христа народу» кисти Иванова, который писал ее до самой смерти. Веточка шутила: она никакое не «Явление», но Мякишев пишет, сколько можно объяснять, не натуру, а с натуры свое внутреннее чувство. А чувствам, как известно, не прикажешь. Он честный, порядочный художник и не хочет перед самим собой лукавить. Костя промолчал, но завелся. Раскраснелся помидорно. Веточка тоже разволновалась, попросив без тени иронии: «Не вздумай его обижать. Он добрый и наивный, как князь Мышкин». Костя ответил вопросом: «Разве твой Мышкин не женат?» Как ученый, он не верил в бесконечность сублимации.
Пока художник отсекал в ее портрете лишнее, доводя до слияния с сутью, Веточка написала Степку с кисточкой и альбомом, Константина за мольбертом – не совсем реально, но с анатомическими подробностями, в ореоле электромагнитных колебаний. Собралась писать Поцелуйкина, прознавшего про ее таланты.
Все шло как нельзя лучше. Веточка постигала светотень. Скопировала в Эрмитаже небольшую картину «Прачка» изысканного Шардена. Готовилась писать его же «Молитву перед обедом», которой восхищался Михаил.
Но тут случилось непредвиденное. Мякишев неожиданно исчез. Нет, не скрылся бесследно, как Гиацинтов, а сказал, куда и зачем. Назвал точное место – столицу Тибета Лхасу! Загорелся желанием соединить три загадочных цвета при особом освещении: коричневый – одежды лам, черный – ночного тибетского неба, и белый – снежных вершин Гималаев. Почему так срочно? Подвернулся попутчик – известный колорист Прищепкин-Моложавый – знаток и поэт тех мест.
Портрет Веточки разрешил выставить для общественного обозрения. Когда вернется, пусть не скоро, но вернется, допишет левую кисть и подбородок. В Тибете осмыслит, как их лучше сопоставить.
Картину разместили в местной галерее с табличкой под внушительной рамой: «Неоконченный женский портрет». Все выглядело загадочно, неопределенно, без намека на анатомическую конкретность. Силуэт женской фигуры в мерцающем ореоле света, вроде солнечных бликов на воде. Ярко, таинственно, неуловимо. Подходили люди, с каждым днем все больше. Молчали, ахали, снова возвращались.
Специально приезжал Поцелуйкин. Был портретом околдован. Смакуя неувядающие губы, повторял: «Какая глубина! Какая страсть!» Не отрываясь, вглядывался, устроившись напротив на пуфике.
Веточка приводила к картине пятилетнего Степку. Ничего не объясняя, просила угадать, что видит. Степка, глянув, тут же определился: «Моя мамочка» и прижался к ее коленям.
…Появились печальные строчки снова о чем-то несбывшемся в прошлом:
…Хорошо обернуться назад:
Там светло и заметны углы,
Виноватых искать
До смешного и умно, и тонко.
Мы сгорели давно,
Мы – лишь кучки белесой золы
Или снег,
испещренный следами чужого ребенка.
Она посылала в Лхасу эсэмэски. Мякишев отвечал, восхищаясь силой света: особенно сочетанием коричневого, черного, белого. Они неисчерпаемы. Их писать и писать...
Константин завершил монографию: «Сублимация и развитие личности».
Жизнь продолжалась. Он снова в поиске. Была бы Веточка в полете!
Ноябрь 2011 – Апрель 2012